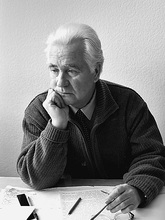Конец эпохи, или Эпоха конца?
Конец эпохи,
или Эпоха конца?
1
…Фёдор Тимофеевич Бабулин вышел на крыльцо, медленно ступая и словно прислушиваясь к чему-то, что могло произойти у него под ногами, неспешно переходя с одной ступеньки на другую, сошёл вниз и уже там, внизу, так же медленно обернулся и удовлетворённо покивал седой головой: нет, ничего не возникло, не шелохнулось, даже не скрипнуло.
Значит, все в порядке, потрудился не напрасно, не абы как, а на совесть, – деревянное крыльцо стоит прочно, новые доски-пятидесятки легли плотно, длинные шурупы-саморезы основательно прихватили их к таким же новым лагам; простоит новое крыльцо ещё с десяток лет, а то и подольше. От души человек поработал, умелыми руками, как, впрочем, всё, что ему приходилось делать прежде. Осталось только покрасить. Вот и ладушки. Вот и хорошо.
Крыльцо было деревянное, как и весь дом. А дом, уже старый, хотя и не ветхий, скромно притулился к покатому овражному склону, не претендуя на особое внимание соседних домов-новостроек, банковских и прочих дворцов, занесённых в этот некогда тихий уютный город новыми временами.
Нет, Федор Тимофеевич не был его владельцем, даже не квартировал в нём, просто стало жалко обносившегося за долгие годы строения. Тем более что жили в нём близкие по делу и духу люди, ещё недавно жили, а теперь осталась одна хозяйка. Дети, каких бог дал, выросли и разъехались, мужа, вышибленного из привычной жизненной колеи сначала проклятой «перестройкой», а затем окончательно сломленного «лихими девяностыми», похоронила, теперь совсем одна.
Вместе с ней, Дарьей Михайловной Соловьёвой (так звали эту женщину), они проработали немало лет под крышей учреждения, которого одни всерьёз побаивались, другие так же всерьёз считали последним «недреманным оком» народа, который всё видит, всё знает и никому никаких послаблений не даёт. Называлось это учреждение Комитетом народного контроля, он был наделён немалыми полномочиями и оттого слыл весьма опасным для всякого рода мошенников, расхитителей народного добра, спекулянтов, новых кооператоров и негласных хозяев так называемой «теневой экономики».
Название обязывало, но вся эта непочтенная публика всё прочнее прибирала к рукам и не такие «инстанции». И не только на местах, как их город, но и все звенья государственного управления и контроля, основу которых составляла правящая партия, всё более разлагающаяся прямо на глазах миллионов её членов и всей страны. Благодаря «дружеским» усилиям иноземных наставников разрушение великой страны шло чрезвычайно быстро и даже без попыток противостоять. Могучая держава с названием СССР пала без единого выстрела.
Впрочем, выстрелы были. Не сносили головы многие из наиболее нахрапистых хищников разворованной в клочья экономики. Вторые расстреливали, взрывали, сжигали первых. Третьи – вторых. Четвёртые – третьих. Пятые – четвёртых. Все жаждали «честного, справедливого» дележа и платили за это и собственной жизнью. Прокуроры и судьи словно вымерли, что уж говорить о каких-то романтиках народного контроля. От них избавились в первую очередь. На первых порах даже весьма либерально – с выплатой каких-то пособий, больше похожих на подачку или вознаграждение за измену. Федора Тимофеевича спровадили на пенсию, хотя срок для этого ещё не подошёл. Ну и что, подумаешь – год-другой! Лишь бы под ногами не путался, патриот. Сегодня патриот тот, кто на Канарах живёт…
Дарья Михайловна, большая умница, отлично владевшая всей конторской «компьютерщиной» (её словечко!), скоро нашла себе другую работу, причём весьма удачно – недалеко от дома и за сходную оплату. От него же, известного в городе борца с хапугами прежних времён, шарахались, как от прокажённого, мстили за свои старые страхи и потери. Даже в трудовую книжку не заглядывали, о возрасте не спрашивали. Бабулин? Тот самый? Ну, тогда гуляй, кот, сам по себе.
И он гулял. Зимой в городе – с совковой лопатой и ломиком – кидать снег и крушить лёд во дворах, летом – со штыковой лопатой, граблями, мотыжкой и леечкой – на деревенской усадьбе, на родных огородных сотках, где домик ещё не совсем сгнил и земля не даст умереть с голоду.
Вот и теперь, вспомнив о деревенском доме, он весь подобрался и, помахав глядевшей в окошко Дарье Михайловне, заторопился на электричку.
2
Прямого сообщения города с его Грачёвкой как не было прежде, не было и теперь, так уж точно – не будет никогда. Потому что не будет и самой деревни. Разлетается, а то и вымирает некогда большая и дружная Грачиная стая.
Когда-то давно, ещё в суровые демидовские времена, когда единственным спасением от жестокого «железного» хозяина – владельцами почти всех уральских железоделательных заводов были отец и сыновья Демидовы – считалось бегство к башкирам в их леса и степи. Появилась небольшая поначалу ватажка заводских углежогов и тут. Каменного угля в ту пору здешние мастера ещё не знали, приходилось, чтобы было чем питать прожорливые домницы, выжигать древесный. А это, известное дело, – дым, сажа, копоть: поработаешь с седьмицу – и уже весь чёрный, как грач. Грачами их и называли.
Маркое, липучее слово прилипло и к их потайному селеньицу в глубине уральской чащобы: Грачи. Шли века, сельцо то увеличивалось, то опасно до исчезновения съёживалось, но после народной войны под рукой славного мужицкого царя Пугачёва, наоборот, так сразу наполнилось всяким людом, что местные встревожились и добрую половину спровадили аж за самые далёкие хребты.
Устояли тогда, устояли и позже, а сейчас, похоже, всё уже решилось. А что? – грач сильная вольная птица, его, как кенаря, утку или чужестранца попугая, не приручить. Вот и летит, разлетается некогда дружная стая. Кто и где совьёт себе новое гнездо? Кто и где сложит отчаянную головушку? Кто скажет, кто узнает?
Невесёлые мысли Федора Тимофеевича прервал шумный встречный табунок городских девчонок. Кричат что-то, хохочут. Кривляются. У всех в руках баночки с вожделенным забугорным пивом, и несут они их так бережно и трепетно, как носили прежде их бабушки разве что святые иконы.
Шум, визг, хохот, мат-перемат. Федор Тимофеевич, опешив, отпрянул на самый край тротуара и чуть не угодил под колёса мчавшихся невесть куда машин. Покуражившись над ним, как над своим одногодком, развесёлая компашка наконец покинула улицу и через прореху в заборе с победным воплем и приплясом дружно перетекла на школьный двор, где резвился не менее живописный табунок уже явно подвыпивших мальчишек…
– И это наши дети?.. И это наш будущий великой народ?.. Господи, спаси и сохрани неразумных. Или воздай по делам нашим…
Федор Тимофеевич не был набожным человеком, но в минуты крайней растерянности и бессилия само его естество искало хоть какой-нибудь опоры и, кажется, находило её. Уж таков наш загадочный для многих русский характер – в самых гиблых обстоятельствах, когда требуется умереть или победить, соединять в себе века и тысячелетия, эпохи ликующего взлёта и жуткого падения, в крови и славе одолеть самих себя, чтобы снова видеть звёзды и солнце над головой, ощущать под ногами родную святую землю, творить жизнь. Жизнь-чудо, жизнь-загадку, жизнь-борьбу.
– Уж такие мы люди, Господи…
Погружённый в свои печальные думы, Бабулин не заметил, как оказался в полупустом вагоне, как шустрая электричка домчала его до нужной станции в центре обширного распадка, где как раз в это время встречаются поезда восточного и западного направлений. Отсюда – через редкий лесок и поля за ним – полтора-два часа пешего хода до его Грачей, до его горькой родины. Места красивые, погода чудесная – дойдёт как прогуляется, не впервой.
– Эгей, Бабулин! Арихметик!..
Из открытого окна восточного экспресса свесилась знакомая кудрявая голова. Кто-то из Грачей. Подошёл – точно: Пашка Грачёв. На побывку из Сургута приезжал. Нефтяник.
Поздоровались и распрощались – уезжал Павел насовсем. И мать с собой увёз. Ещё пара Грачей улетела из родного гнезда…
Так получилось, что у всех коренных жителей их деревеньки была одинаковая фамилия – Грачёвы. Вот только у него, Федора Тимофеевича, да ещё у старика Николая Кулиша вышла осечка. Деда Кулиша все знали как добрейшего и усерднейшего из давних украинских переселенцев. И больше как Миколу Мовчуна, что точнее соответствовало его славному характеру. А вот что касается его, Федора, паспортных данных и смешной клички Арихметик, то это уже особый разговор. Тут есть о чём подумать, над чем поломать голову, потужить, а может быть, порадоваться. Вот доберется до дому, справит срочные дела в огороде, перечитает с карандашом в руке извлечённые из Интернета и распечатанные по его просьбе добрейшей Дарьей Михайловной листы, тогда, на досуге, может, захочется подумать и об этом.
3
Ах, Дарья Михайловна! Ох, Дарья, Даша, Дашуня! Как же выразить признательность за твою доброту, за твою отзывчивость, чисто женскую пунктуальность и профессионализм! Чем отблагодарить?.. И когда…
Дело в том, что вот уже несколько лет Федора Тимофеевича занимала и угнетала одна жгучая проблема, не признающая ни границ, ни континентов, ни цветов государственных флагов, проблема ужасного обесценивания человеческой жизни.
Если раньше было принято говорить, что жизнь человека бесценна, то это вовсе не значило, что цена так ничтожно мала, будто её и вовсе нет. Наоборот: цена её так непостижимо велика, что никакими величинами её не объять, не измерить. Да, нет цены человеческой жизни – настолько она бесконечно высока. Она просто бес-цен-на!
О том, что с этими понятиями за последние годы случилось что-то неимоверное, что в наше существование неожиданно вторглось жестокое чудовище, вопят все телеканалы, газеты, журналы, Интернет, радио, кричат залитые кровью мостовые больших и малых городов, бесконечные дороги наших великих пространств, разбитые проезды в сельские поселения, даже бетонные плиты и асфальт спальных районов солидных мегаполисов.
Цифры, цифры, цифры! Целые колонки за последние десять лет. Цепкая память Федора Тимофеевича тасовала их, как живой человеческий компьютер, всё складывала и складывала, в результате чего получались сотни, тысячи, десятки тысяч. В среднем по тридцать и более тысяч за год.
Невольно всплывала в памяти цифра потерь за все десять лет пребывания советских войск в Афганистане. Получалась ошеломляющая картина: только за один год на дорогах страны в условиях мирного времени мы теряем в два с лишним раза больше, чем за всю ту десятилетнюю войну. А что уж говорить об искалеченных и получивших тяжкие ранения. Это как же понять? Более того – как принять умом и сердцем?
– Что-то не так, – потирая взмокшие виски, говорил себе Федор Тимофеевич. – Может ли такое быть? Пересчитай заново. Проверь себя, проверь, Арихметик!
Арихметик было его прозвище. Появилось оно как-то вдруг, неожиданно для класса и него самого. В третьем классе учительница вызвала его к доске решать примеры, стала диктовать, а он и мела в руки не берет. Учительница читает, а он ей тут же – готовый ответ. На все четыре действия.
– Да ты, Бабулин, у нас чудо какой математик! На олимпиаду поедешь. Садись, пять! – ахнула учительница.
Для школьников слово «математик» было ещё непривычно, вот и окрестили его Арихметиком.
И раз, и другой, от столбца к столбцу перепроверял себя Федор Тимофеевич и под конец так разнервничался, что отыскал остатки сигарет на кухне и выскочил на улицу остудить седую голову и проветрить память колючим дымком.
На улице уже вечерело – тихо, умиротворённо, почти беззвучно. В прежние годы в такую пору в деревню возвращалось с пастьбы немалое крестьянское стадо, а вместе с ним, даже опережая его, в широкую зеленотравную улицу вплывало целое море дорогих крестьянскому слуху звуков – мычанье коров, блеянье овец и коз, пощёлкивание пастушьего кнута.
Нет теперь в Грачах такого стада, ушли вместе с ним в прошлое дорогие звуки, а желанное вечернее умиротворение больше походило на вымирание. Умирает деревня, на глазах всей земли и всего равнодушного к ней неба беззвучно исчезает, растворяется в безжизненной тишине и влажной, такой прежде желанной и целительной прохладе, измотанный и обессиленный крестьянский мир. Что грядёт после него, в каком обличье и ради чего?
Поскольку электричество давно отключили, Федор Тимофеевич разжег во дворе возле баньки маленький костерок и присел рядом дожидаться, когда вода в ведре закипит и можно будет заварить к ужину чаю.
На огонёк, тяжело шаркая калошами, пришёл проведать вернувшегося из города соседа Мыкола Мовчун, невысокий, с кудлатой бородищей, но ещё на зависть крепкий девяностолетний старик. Как всегда, по-медвежьи облапил, постучал по спине чугунной ладонью и этим высказал всё, что надлежало сказать при встрече. Сел рядом, запалил трубку с домашним горлодёром, приготовился слушать новости. А они были такие же, как и неделю, и месяц, и год назад, – город всё на том же месте, хотя и сам не знает для чего. Какой-то умник запретил на похоронах траурную музыку, чтобы не надрывать душу горожанам излишней печалью. А то ведь если каждый день такой траур, кто же тогда жить останется, одни музыканты? А это ведь явный непорядок, поди…
Последняя новость особенно затронула душу ветерана.
– А война на дорогах не утихает. Счёт на тысячи. Каждый день. Круглосуточно.
– Сталина на них нет, – глухо отозвалось в бороде, и этим было сказано всё.
4
Всю ночь Бабулину снились одни и те же сны. Скорее всего, это был один долгий сон, разбитый, как телефильм, на множество серий, сменяющих одна другую на протяжении месяцев и даже лет. Уже от телевизоров несёт мертвечиной, уже жилые квартиры всё больше напоминают морги, а лихие киношники всё гонят и гонят свою тухлую продукцию, давно переплюнув в «мастерстве» своих забугорных учителей. «А что, – посмеиваются весёлые и находчивые гении, – теперь и у нас, как у них. – И многозначительно поправляют друг друга: – Теперь и у них, как у нас!»
А снились Федору Тимофеевичу дороги. То зеркально гладкие, то все в рытвинах и ухабах, то покрытые блестящей коркой гололёда. И всюду машины, машины, машины. Лихо несущиеся на бешеных скоростях, летящие навстречу друг дружке, горящие на обочинах и в уже переполненных покорёженным металлом кюветах. Визг тормозов, скрежет железа, яростный ор «обиженных» и доказывающих свою правоту водил, предсмертные стоны и кровь, кровь, кровь.
Всё это он не раз видел не во сне, а на реальных дорогах, в реальной жизни, когда ещё сам сидел за рулём своей видавшей виды «копейки», когда его самого таранили безбашенные лихачи и увозили с «поля боя» машины с красным крестом. Когда не стало и той бедной «копейки» и он пополнил серые ряды презренной «пехтуры», думалось: ну и ладно, ну и слава Богу, всё подальше от беды. Но какой там подальше, если тебя, безобидного пешехода, законно идущего по «зебре» на зелёный свет светофора, запросто собьют безусые пацаны с купленными водительскими правами или подбросит на сияющий капот своего забугорного чуда разудалая девица, которая считает, что раз её папаша… раз она спит с самим… то ей всё дозволено и даже весело.
Никто не будет отрицать, что страшна любая война с любым явным, решившим поработить тебя, твою семью и твою родину противником. Там всё свято – и смерть, и рана, ведь в итоге всё равно будут Париж или поверженный Берлин. Но то, что люди точно окрестили «дорожной войной», – это как? На войне с внешним врагом предателя, стреляющего в своих, судили правым справедливейшим судом – на месте, пусть даже последним патроном. И это не было жестокостью. А как быть тут? Спросить у старца Мыколы Мовчуна? Так он уже сказал своё.
Утром ломило голову и в глазах мельтешили непонятные то ли точки, то ли песчинки. Достал из колодца студёной воды, освежился до пояса, промыл глаза – просветлело. А после горячего густо-чёрного чая отпустило и в голове. Руки сами собой потянулись к Дарьиным листам с компьютерной цифирью. Перепроверил себя ещё раз, теперь уже с карандашом в руках, – всё верно, живущий в нём Арихметик по-прежнему точен.
На протяжении всей уже немалой жизни Бабулину не раз приходилось слышать вопросы близко знавших его людей: что это у него – такая счастливая болезнь или результат тренировок по какой-то тайной системе, нельзя ли и им… Нет, нельзя, смеясь отвечал он, потому что это тайна для него самого. Тогда иди в шпионы, советовали любопытствующие, мол, только раз услышал или подсмотрел и… И орден на груди? Теперь смеялись уже все.
Он не кривил душой и не рисовался, а действительно не знал. Как не подозревал раньше, что большая часть населения видит только чёрно-белые сны и не верит, что у некоторых они, наоборот, бывают только цветными. Чёрно-белых снов он не видел.
Что касается его действительно неординарной способности, то он не придавал ей большого значения: ну, есть и есть, и что с того? Облегчала жизнь в молодости, раньше других контрольные сдавал, – всего-то. Для сегодняшней электронной техники это семечки, хотя, казалось бы, чудо – ни грамма же мозгов, а не удивляемся: привыкли…
С трудом успокоившись после пережитого шока, Федор Тимофеевич осторожно начал вчитываться в другие Дарьины листы. Ещё раз благодарно восхитился: какая же она молодчина, как широко увидела проблему! Вот данные о том, на каких дорогах – плохих или хороших – ДТП (случаются чаще и трагичнее, в какое время года и суток их больше, сколько штрафов получено с нарушителей, сколько недобросовестных участников этих ДТП лишено прав на управление автосредством…
Люди добрые, какой огромный материал, на какие раздумья он наводит … Это правда, что народ наш из года в год вымирает. Да, это правда, но правда неполная. Он вымирает не сам по себе, не только от болезней, бедности, низкой рождаемости. Но и оттого, что его изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год выбивают кровожадные дорожные войны. Это мы сами убиваем и калечим друг друга. Забыв о том, что жизнь бесценна. Потому что неповторима. Потому что у каждого единственная.
5
Чтобы немного успокоиться от пережитого минувшей ночью, Федор Тимофеевич не придумал ничего лучше, чем заняться огородом. Всего было понемногу, и за полдня он со всем успешно управился. Что ещё?
– Схожу-ка на погост, к бабуле, – решил он, хотя побывал там совсем недавно.
Если идти напрямик, то путь совсем недолог, но он никуда не спешил, и ноша – пятилитровая канистра с водой – совсем не тяготила его, пошёл окраиной деревни, через Аллею победителей, через ложбинку с заросшим осокой родничком. Через луг, который и в этом году вряд ли кто скосит.
Попутно собрал большой букет из дикой мальвы, иван-чая и обильной тут ароматнейшей медуницы; сменил в кувшине воду, налил свежей, аккуратно разместил в нём принесённые цветы.
– Я опять к тебе, бабуленька… Худо мне без тебя…
Поправил слегка покосившийся крест, который сам в своё время сделал, посетовал, что краска на нём совсем выцвела и заветные слова: «Грачёва Марфа Игнатьевна» – почти не читаются. Вот привезет из города баночку краски, бутылочку олифы, новую кисть и всё восстановит. И стоять этому святому знаку ещё долго-долго, потому что лиственница, из которой он его сработал, не боится ни воды, ни каких других губительных для обычного дерева природных явлений.
Обратно возвращался тем же путём – через лужок, ложбинку, аллею… Аллея победителей (она же Аллея памяти и Аллея славы) появилась в Грачёвке в год двадцатилетия Великой Победы. Это он хорошо помнит. Помнит, как они, старшие школьники, копали первые посадочные ямы, а потом всей деревней сажали привезённые из лесу молодые берёзки.
А вот постамент с памятной гранитной плитой появился гораздо позже, когда после долгих тщательных уточнений были выявлены все погибшие и вернувшиеся с войны живыми. Все они – и живые, и мёртвые – победители. Вечная им память и вечная народная слава.
В большом списке погибших Федор Тимофеевич легко выглядел строчку, отведённую его отцу – «Грачёв Тимофей». Грачёв… Тут почти все были Грачёвыми. А вот он, сын одного из них, почему-то не Грачёв, а Бабулин. Свою фамилию он уважал и даже любил, но как так? Бывая здесь, он всегда озадачивался этой странностью. Бабуля на его расспросы отвечала немногословно, мол, раз он внук её, то непременно Тимофеевич, потому что Тимофеем звался её единственный сынок. Ну а что касаемо фамилии, то мало ли что бывает…
И ещё вспомнилось Бабулину, как несколько лет назад его родная, уже зримо уполовиненная Грачёвка чуть не взяла на душу тяжкий непростимый грех, едва не пустив под топор святые берёзки этой всеми любимой и почитаемой аллеи. Хорошо, что в эту пору, оставшись в городе без работы, он оказался дома. Как сейчас помнит – прибежал к нему Настасьин мальчонка, загремел в дверь, завопил что есть мочи:
– Даденька Арихметик, спасайте!.. Там бабы с топорами и пилами… Там… все орут, всё грозятся… В Аллею прут!..
– Зачем?
– Вот тупой какой! По дрова!
В Аллею славы – по дрова?
– Бежим же!..
– Веди!..
Они успели вовремя: разъярённые, как роящиеся пчёлы, женщины облепили всю аллею, но ни одного дерева ещё не свалили. На шум и крики прибежали подростки, притопал с костылём Мыкола Мовчун, еле вытеснили взбунтовавшихся баб за ворота. И тут озлобленный рёв перешёл в покаянные вопли и слёзы. А когда женщина плачет, с ней уже можно говорить.
Неспроста, ох, неспроста взбунтовались грачёвские женщины! Весь жизненный уклад их семейных гнёзд рухнул, работы, даже самой всеми и всегда клятой, не стало, не стало даже начальства, с которого можно было бы спросить или хоть что-то выпросить. Почти не осталось в деревне мужчин и малой ребятни: некому рожать и не от кого. «Конец света», поставила свой диагноз бывшая фельдшерица Настасья Грачёва.
Начало этому концу положили годы, когда чуждые народу силы словно вырвались из преисподней, охомутали страну и свернули её на новый, оказавшийся гибельным путь. Хорошо организованный хаос в политике, экономике, морали вызвал к жизни всё злобное, алчное, прежде постыдное и грязное.
Новые хозяева разрушили прежде монолитную страну, рассорили братские по крови и духу народы, мало того – посягнули на самое заветное: на наши победы, на семью, на материнство, на детство. Оклеветав поколение победителей, лишили будущего и их детей, внуков. А ведь считай почти все великие люди России (во всех науках, искусствах и делах) дали ей не раззолоченные столицы, а её скромные, часто уездные города и села. А что, сейчас Русь талантами обеднела? Талантов много, дорог для них мало.
Простодушного, не искушенного в политике россиянина оказалось очень легко пронять самыми вроде бы безыскусными, понятными словами: «разрешено всё, что не запрещено законом», «обогащайся», «учись делать деньги», «колхоз – деревенский ГУЛАГ», «живи для себя, сосед тебе не указ», «права человека превыше всего», «самый сладкий бизнес – бизнес на любви» и т.д.
Ну, если так, если всё разрешено и даже освящено святыми отцами, чего дремать? Дремать, упускать случай никто не хотел.
После ликвидации колхозов в Грачёвке долго ломали головы – как же теперь быть с землёй? Года два никто не пахал и не сеял. На третий решили поделить по числу едоков. Поделили. И что дальше? Лопатами копать, коров в соху впрягать? Слава Богу, нашёлся человек с техникой. Предложил одно поле засеять сахарной свёклой, уход – за ними, а расчёт – сахаром – за ним.
«Ну вот, хоть какое дело!» – смеялись грачёвцы. Когда честный бизнесмен (большая редкость того времени) развёз мешки с желанным продуктом по домам, деревня снова схватилась за голову: куда его теперь? Городские магазины брать за деньги отказались, менять на муку тоже… Первой нашла выход Настасья, баба тёртая и весёлая, сварившая пробную партию самогона. Скатав в город с тяжёлым рюкзаком за спиной и хозяйственными сумками в руках, вернулась с большими деньгами и всякими покупками.
За Настасьей двинулись остальные… Словом, целый год Грачёвка пела и плясала, спаивала осчастливленных россиян и вместе с ними спивалась сама. На сельском погосте появился целый ряд новых могил, многие семьи остались без отцов, а что такое пьющая женщина, мать – объяснять не надо…
Вот так начиналась чёрная и бесславная гибель прежде строгой, домовитой Грачёвки на виду у всей России, вместе с ней. Теперь вот замахнулись на святое, но, слава Богу, Аллея победителей, их отцов и дедов, уцелела. Не уцелела деревня – от прежней осталось пять жилых дворов, в остальных гулял ветер. Всё решительнее и суровее наступала зима, а обещанный газопровод так и не запустили. Беспечно понадеявшись на него, никто вовремя не запасся дровами, а в холодных печах даже простецкой похлёбки не сварить…
Хорошо хоть его любимой бабуле увидеть всего этого позора и горя не выпало, ушла из жизни, прежде чем все так порушили и извели. Думая о ней, он вспоминал бесконечную доброту и бескорыстие бабули; она всех считала своей кровной роднёй. «Как бы она поступила сегодня?» – спросил он себя и сам же ответил: «Прежде всего всех бы согрела у своей печи».
Так он и поступил – собрал всех в своём доме, напоил горячим чаем и спросил – как же они собираются зимовать?
– Дом спалю и сама с ним сгорю! Всё равно ведь конец света! – в отчаянии выкрикнула Настасья и залилась слезами.
– А сынишка, Рыжик твой? О нём ты подумала?
– О нём пусть Бог думает. Сам дал, пусть сам и заберёт!
– Та хиба ж так можно, кума? – прогудела борода Миколы Мовчуна. – И сама, и с сыном заходь до нас, нам с дочкóй вдвоих дюже нэ тэсно.
– Спасибо на добром слове, сосед, хорошую мысль ты нам подсказал.
Федор Тимофеевич окинул взглядом притихших баб, задержался какое-то время на задремавшем в тепле бывшем колхозном механизаторе Степане Грачёве и высказал то, что пришло теперь как бы само собой.
– Поодиночке, поврозь нам, земляки, эту зиму не пережить. Ества какая-то имеется, а вот с топливом у всех беда. Но вот прикиньте: людей у нас всего с полтора десятка осталось. Если на время расселить их в три-четыре избы, всё упростится. И меньше печей топить – меньше дров надо, верно?
– Коммуну из нас хочешь сделать? – сверкнула из угла глазами вечно со всем несогласная Настасья.
– А хоть бы и так, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Что же касаемо коммуны, то должен заметить, что хорошее это слово, крестьянское. Хоть и иностранное. Если перевести его на русский язык, получится община. Мы же, милые, тысячи лет общинными были, тем и выжили. Не так ли?
– Всё так, и я за, – поднялся Степан. – А дрова… Сколько изб у нас много лет пустуют? И при каждой – банька…
– На чужой каравай рот не разевай! – опять встряла Настасья. – Священная частная собственность, по-нынешнему. Охраняемая, между прочим, законом!
– Я ж не предлагаю все избы ломать, может, кто-то когда-то ещё возвернётся. А вот бани, особенно те, что уже на ладан дышат… почему бы и нет?
– Дило гуторит, хлопец, – поддержала Степана борода старца Мыколы. – И община тоже дило. Хушь и коммуна вона ж…
На том и порешили. Тем и спаслись опять.
6
На рассвете его разбудила гроза. Удары грома были настолько сильными, что сотрясался дом, а в окнах звенели стёкла. Выбежав во двор, он готов был кинуться назад, но поражённый видом неба устоял. То, что находилось над ним и ласково называлось небом, небушком, сейчас было густой чёрной массой, тяжко клубящейся и опасно низкой, грозящей вот-вот развалиться и, погребая под собой всё живое и мёртвое, рухнуть на землю. Мощные долгие молнии освещали его со всех сторон, отчего то, что было небом, всё убедительнее превращалось в гигантский кратер Вселенной, в котором кипела магма и бушевал огонь.
Странно, не было ветра. По крайней мере, на земной поверхности. И дождя. Хотя из таких туч, если это были тучи, могли обрушиться такие ливни, что затопили бы всю землю.
«Конец света…» – вспомнились слова, всё чаще звучавшие в устах людей.
Сотрясаясь всем телом от бившего его озноба, Федор Тимофеевич вернулся в дом, свалил на кровать всё, что могло дать или сохранить тепло, и зарылся в нём, как крот в горе. Уснул мгновенно, а проснулся уже заполдень. В окнах солнце. Вышел – синее небо, лёгкий ласковый ветерок, перекличка кукушек…
Пока осматривался, набежала маленькая тучка и посыпал мелкий тёплый дождик. Дождь и солнце. Дождь сквозь солнце! Башкиры называют его ляйсаном, и детвора выбегает порезвиться под ним. Шум, смех, восторг на всю округу: ляйсан, ляйсан, праздник лета! Все, кто есть, поспеши, вместе с нами попляши! И он, давно уже не мальчишка, что-то крича, ликовал, плясал. Омылся с головы до ног, сбросил с себя груз прожитых лет, снова почувствовал радость и сладость жизни. Если бы кто-то увидел его в это время, непременно решил бы – хватил человек лишнего. А человек этот просто был счастливым.
Дни, проведённые в горьких воспоминаниях и раздумьях над колонками цифр-трагедий, цифр-людских горестей и бед, так измучили душу, что казалось – прежним он уже не будет никогда. Не достанет для этого сил, просто не возродится сломленное желание жить.
Ах, ляйсан, ах, дождь сквозь солнце, ах, праздник света!.. Теперь я знаю, что дождь может быть и таким. Спасибо тебе, ляйсан!.. Мы с тобой дети одной Земли.
Теперь можно и в город, к Дарье Михайловне. Пусть прочтёт написанное и что-то скажет. Она умница, она, как и он, всё видит и понимает, и ему сейчас так не хватает её.
7
Дарья Михайловна встретила его по-дружески и, как всегда, с простодушной улыбкой.
– Ну, как поживает ваша Грачёвка? Не улетела ещё?
– Разлетается, – грустно улыбнулся Федор Тимофеевич. – Вот недавно ещё пара «грачей» улетела. Осталось четыре двора, если и мой считать. Печально.
– Сначала рабочий класс исчез, теперь и крестьянский класс исчезает…
– Нам всё говорят – будут фермеры. Как у них. Может, и будут, но это уже другой народ. Русского, национального, на чём стояла Россия, в них нет..
– Горько, больно, а что делать? Как и с этими треклятыми «дорожными войнами».
– А вы, Федор Тимофеевич, не находите, что и то, и другое – птички из одного гнезда?
– Ладно бы птички, а то ведь, скорее, крокодилы. Которых в наших северных широтах никогда не было.
– Не было, так завезли. Вон ведь какие прожорливые!
– Да, отсутствием аппетита эти твари не страдают. Как и их хозяева…
Потом они пили чай. После чая Федор Тимофеевич разложил на столе её компьютерные листы со множеством своих карандашных пометок и – с робостью – написанную на их основе статью.
– Никогда ничего, кроме докладов не писал, даже не знаю, что вышло. Убедительно прошу взглянуть. Я считаю, что проблему, которая волнует не только меня, вы знаете и понимаете даже лучше, чем я сам. Я всегда знал, что вы умная, принципиальная женщина, но не настолько же. Честное слово!
– Ну, захвалили вы меня, Федор Тимофеевич! Просто я люблю до всего доходить сама. Тем более в таком случае. Так что всегда можете рассчитывать на мою помощь. Тем более, что, как мне кажется, это лишь начало, лишь кончик ниточки, за которую нужно потянуть…
Обрадованный Бабулин уже не мог усидеть за столом, принялся ходить, жестикулировать, но кухонька была так мала, что поневоле пришлось умерить свои эмоции и вернуться на прежнее место.
– Ну ладно, Дарья Михайловна, вы же и без моих излияний знаете, как я вас уважаю и ценю. И то, что мы, два почти юных пенсионера, опять впряглись в одну телегу, непременно приведёт к какому-то результату.
Дарья Михайловна лишь грустно улыбнулась в ответ.
– Боюсь, что цифры, которые вы так любите…
– Не цифры, милая, не цифры! Их я, вот эти самые, – он энергично потряс лежащими перед ним листами. – Вот эти самые… ненавижу всей душой.
Она дождалась пока он выговорится до конца, и ласково коснулась его плеча.
– А я боюсь, что они, даже ненавидимые нами, вряд ли что изменят.
– Пусть о них узнают все!
– А что они могут, эти «все»?
– Но ведь надо же что-то делать. Надо как-то остановить эту машину самоистребления!
– Как, дорогой Федор Тимофеевич, как? Я не знаю как и потому боюсь. Чем больше имею с ними дело, тем больше боюсь. Вы даже представить себе не можете как.
– Признаться, и я тоже… боюсь. Из-за них мне снятся такие жуткие сны, что… порой кажется…
– Вы не находите, что вам нужно отвлечься, отдохнуть?
– Я и так на заслуженном отдыхе…
– И я…
– Значит, нам обоим нужно отвлечься…
– Поехать на Канары, на Лазурный Берег, в Анталью? Вы мультимиллионер?
– Ближе, Дашуня, ближе! В мою Грачёвку. На луга, на речку, в тишину. На землянику и грибы! Я там такие места знаю, ахнете. Грибов наедимся, варенья наварим… а?
Дарья Михайловна сдалась сразу.
– Ну, раз на землянику… Раз на грибы… Что с собой берём?
8
Грачёвка встретила их разморённой тишиной набирающего силу июля. Настоянный на покрывших всё пространство одновременно расцветших трав воздух казался плотным и даже слегка тягучим, вязким, который нужно было пить, а не вдыхать. Что цветы! Само солнце в небе больше походило на каплю свежего мёда, растёкшегося на вылинявшей от зноя скатерти небес золотым лучистым пятнышком. Даже пахло мёдом.
Отдохнув с дороги и подождав, когда зной несколько спадёт, отправились на разведку. В руках по ведёрку, на глазах солнцезащитные очки, на ногах лёгкие кроссовки. Дачники да и только.
В Аллее славы несколько задержались. Дарью Михайловну заинтересовало, почему у его отца одна фамилия, а у него другая.
– Так бывает… в деревне? Грачёв и Бабулин – разница есть?
– В жизни всякое бывает, – смутился он. – Я и сам точно не знаю. И спросить некого: отец погиб, бабушка умерла…
– А мама?
– О ней никто в Грачах ничего не знал. Мне всю жизнь казалось, что её вообще могло не быть. Сколько помню себя – всё бабуля да бабуля. Необходимости в матери я как-то не испытывал. Пожалуй, нехорошо это, но это так.
– Значит, хорошая была у вас бабушка, раз настолько мать заменила. С самих пелёнок, должно.
– А вот как фамилия такая появилась, соседи на мои расспросы то ли правду сказали, то ли пошутили. Моё появление в Грачах было для них неожиданностью. В деревне ведь всё про всех знают. А уж кто чем… Я изначально был Бабулиным. Когда, впервые увидев, меня спросили: «Чей же ты будешь, хлопчик?» – я ответил: «Бабулин». И так – на всю жизнь… Сам себе фамилию изобрёл…
Дарья Михайловна задумчиво склонила голову.
– А что, этот Тимофей Грачёв до ухода на войну не был женат?
– Бабуля и все сельские говорили, что не был. Совсем молодым ушёл. И на побывку не приезжал.
– А в соседних деревнях у него зазнобушки не было?
– Так мальчишка же совсем…
– А симпатичным был?
– Не знаю, карточка у бабули была, так упросила вместе с ней похоронить. Очень любила. Часто вспоминала и плакала. Одинокая была…
– А вас тоже любила?
– Внучком звала.
– А ей к тому времени сколько лет было?
– В сорок седьмом году-то? Точно не знаю, лет шестьдесят, пожалуй… Тем летом, рассказывали, у нас была сильная засуха, а следом – отчаянный голод! О нём люди помнили долго и всё сокрушались, что подать христорадникам было нечего, сами голодали. Многие из нищих умирали по домам и по дорогам. Особенно зимой, в метели. Матери, говорят, в надежде спасти детей, особенно маленьких, оставляли их на порогах чужих изб и в банях, подбрасывали старикам, оставляли в людных местах.
– А что же власти? Куда они-то глядели? – возмутилась Дарья.
– Что власти, когда закрома пусты! Война, конечно, кончилась, но госрезерв шёл прежде всего в области и республики, порушенные в годы войны. И в освобождённые от фашистов страны Европы тоже. Тогда они очень любили нас.
– В те самые, что теперь из натовских окопов лают на нас в знак благодарности?
– Выходит, что так. Подло, бессовестно, но что есть, то есть…
Дарья Михайловна молча потупилась и с расспросами больше не подступалась, словно сама поняла что-то очень важное. После долгого молчания виновато улыбнулась:
– Так где же ваши грибки-ягодки, Федор Тимофеевич? В какую сторону идти? Тут у вас ни дорог, ни троп, как в тридесятом царстве.
–Вот и хорошо, значит, мы первые. И всё, что уже созрело, наше!..
Далеко идти не пришлось. Едва спустились в ложбинку и стали подниматься на её противоположный бережок, за спиной Федора Тимофеевича послышался всполошный крик его спутницы. Он испуганно обернулся, ибо шёл впереди, и первым делом подумал: змея. Однако дело было в другом: спутница его была женщиной, а как смолчать женщине при виде того, как большие мужские подошвы топают прямо по алым, брызжущим спелым соком земляничным ягодам?!
– Ну, Федор Тимофеевич, этак вы нас совсем без ягод оставите. Посмотрите под ноги. Разве так можно на живой-то природе?
Он послушно огляделся и смутился ещё больше.
– Виноват, виноват, Дарья Михайловна. Задумался, другое место имел в виду. А тут прямо под ногами… И сколько же её нынче. Ягоды этой!.. Аж в глазах рябит.
Вскоре они так увлеклись, что стало не до разговоров, а в вёдрах всё прибывало и прибывало. Когда решили передохнуть, они оказались полны до краёв.
– Что же теперь делать? – озадачилась Дарья. – Только-только во вкус вошли, а уже – конец! Нехорошо даже, не находите?
Бабулин тоже находил, что нехорошо, даже обидно, особенно за гостью, и предложил отнести вёдра домой и вернуться с другими.
– А вы тут пока передохните, полакомьтесь, а то всё в ведро да в ведро. Не забоитесь?
– Если тут медведей нет… А там что?
– Так Грачёвка же! Мы, считай, ещё и из деревни не вышли. Вон крайние избы, пустые… Вот когда я был мальцом, вся ребятня на эти луга сбегалась. Как на праздник. Вот уж где нас ждало счастье!.. Хлеба не было, одежонки не было, а счастья – по край. Хоть граблями греби.
Дарье Михайловне понравилось, как он говорил о своей Грачёвке, даже о нынешней, умирающей, но тут было не до долгих разговоров, время не ждёт.
– Ну так идите, Федор Тимофеевич. Вёдра опростайте во что-нибудь и мигом обратно. Нам же ещё варенье варить. И завтра, прямо с утра…
– С утра роса помешает. Погодить часика с два придётся.
– Жалко. А я, оказывается, такая жадная, аж стыдно… Нехорошо это. Никогда за собой такого изъяна не замечала. Но что поделать?..
– Что делать? Собирать! И это не от жадности, а от восторга перед природой. Она, поди, смотрит на нас и тихо радуется. Тоже счастливая…
Весь следующий день они занимались ягодой. Поскольку из-за отсутствия электроэнергии холодильник бездействовал, а запасы сахара оказались весьма скромными, большую часть пришлось на старых газетах и скатертях просто сушить на улице под жарким июльским солнцем.
– И что из этого будет? – пожала плечами гостья. – Земляничные сухарики? Так делают?
– Так на Руси делали веками. А зимой – горсть в тесто, горсть в пирог, горсть в целебный отвар… Уж хозяйки довольны!.. Особенно детвора.
– И всё-то вы знаете, Федор Тимофеевич, всё умеете. Жене с вами, поди, легко было?
Эти простые, легко и случайно сказанные слова больно резанули по сердцу. Ни о жене, ни о своей семье он никогда ни с кем не говорил. Даже самому себе вспоминать не позволял. А годы всё шли и шли…
9
Вырос Федя Бабулин в этой самой Грачёвке. Здесь окончил четыре класса начальной школы. По тем временам и этого для деревни было достаточно, но бабуля настояла на продолжении учёбы, теперь уже в семилетке, а та находилась в соседнем селе, за пять вёрст. Весной и осенью ходил пешком, а на зиму та же бабуля раздобыла у кого-то старенькие лыжи, на которых он и пробегал все три зимы.
Когда принёс домой свидетельство с пятёрками почти по всем предметам и похвальным листом впридачу, радости и гордости бабули не было предела. Выбился в люди её ненаглядный внучок! Такого «быкам хвосты крутить» не поставят, любую конторскую премудрость осилит! Или даже в учителя пригласят.
Однако конторская служба в тепле и чистоте паренька не привлекала. Другое дело – электротехника, трактор или даже самоходный комбайн! И всё у него получалось, везде им были довольны, а там подошёл срок идти на военную службу, и он с готовностью пошёл, мечтая о танках или, на худой конец, о «царице полей» – артиллерии, но совсем неожиданно для самого себя угодил во флот.
И тут его везениям подошёл конец. Ещё в учёбке один из командиров выстроил его отделение на плацу и зычно скомандовал:
– У кого за плечами десятилетка, – шаг вперёд!
Таковых в подразделении не нашлось.
– Кто окончил семилетку, – шаг вперёд!
Фёдор вышел.
– Хорошо учился?
– Без троек…
– Как фамилия?
Он назвался.
– Молодец, Дедулин. За мной шагом марш!
– Вы ошиблись, товарищ командир! Я вовсе не Дедулин. Я Бабулин.
– Бабулин? А нам без разницы, лишь бы котелок хорошо варил и почерк был красивый. Ну, шаго-о-ом…
– Слушаюсь!..
Сбылись мечты бабули иметь своего внучка в чистой и тёплой конторке. То, что она тут армейская, значения не имело, а ему-то каково! Однако в армии не перечат.
Бухгалтерия, конечно, служба женская и для настоящего мужчины обидная, но по-своему интересная тоже. Скучная, правда: весь день – цифры, аж в глазах рябит. Однако не зря же он Арихметик! Через месяц-другой начальник его отдела, человек уже в возрасте, майор, как бы между прочим сообщил, что в городе имеется финансово-экономический техникум, где он мог бы получить стóящую специальность.
Фёдор понял это как тактичный приказ и не посмел отказаться. Так, в службе и учёбе, прошли требуемые годы, и он вернулся в свою Грачёвку нужным селу специалистом. Когда правление колхоза назначило его бухгалтером, бабуля от счастья даже помолодела. И вместе с тем испугалась: дескать, справишься ли, милый?
Он работал, с благодарностью вспоминал приморский город с его техникумом, доброго, заботливого майора. В правлении, где он через год стал главным бухгалтером, его ценили, в Грачёвке уважали и почитали – кто за ум, кто за должность, кто (и парни и девчата) за распрекрасную морскую форму, которую он позволял себе надевать по праздникам.
И вдруг на одном из районных совещаний, куда колхозный председатель непременно брал с собой и его, главбуха, на него обратил внимание один из начальников повыше. Тот вскоре «выдернул» его к себе в райцентр, – ну прямо как окунька из пруда! – откуда, в свою очередь, его «выдернули» в «область», то есть в областной центр.
Сам Фёдор Тимофеевич не прилагал к этому никаких усилий и даже удивлялся – эк, куда меня занесло!
Женился тоже как-то само собой. То ли бабулины мечтания о детских голосах в доме подействовали, то ли просто девушка приглянулась, а он, такой красивый в морской форме, понравился ей. Работала Ира «животным доктором», ветеринаром, стало быть, тоже была деревенской, и это устраивало всех.
В городе им выделили «двушку» в панельном доме и жизнь пошла своим чередом. Ирина оказалась спокойной, хозяйственной женщиной, квартира, приведённая ею в порядок после прежних жильцов, радовала уютом и располагала к тихой семейной жизни. Пока в государстве не начались всякие эксперименты и перестройки. Со временем они охватили всю страну, не миновали и их область, их город, их семью. У жены появилось много подруг и знакомых. Шумные, всегда чего-то ищущие, нервные, решительные, они увлекли и Ирину. В доме стали появляться дорогие редкие вещи, какие прежде приобретались лишь за большие деньги и по блату. Всё, что они зарабатывали, тратилось мгновенно. Как-то он посетовал по этому поводу, а она лишь отмахнулась:
– А, сегодня это ещё какие-никакие деньги, а завтра станут бумажками! Торговля буквально сходила с ума от вновь открывшихся возможностей. Новые шопы, маркеты и супермаркеты, разорив и поглотив прежние скромные магазинчики, работали без выходных дней и круглосуточно. Однажды, под Рождество, Ирина не пришла домой после работы. Фёдор Тимофеевич сначала не придал этому значения, решив, что задержалась в своём центре. Время подходило к полуночи, а её всё нет. Не выдержал, набрал её номер по сотовому телефону. Отозвалась не сразу, но почти спокойно.
– Не волнуйся, мы в «Элегии». Ждём.
– Кто «мы»?
– Да нас тут тысячи!
– Чего ради? Ночью-то.
– Ждём гигантскую распродажу. Скидки – до пятидесяти процентов.
– И тебе это надо? В твоём положении?
– Не паникуй и не сердись. Я, когда будет нужно, позвоню сама. Отдыхай…
Не выдержал, жена-то на сносях, мало ли чего. Часа через четыре или пять позвонил снова – без ответа. Ещё через пару часов – то же самое.
Утром в аппарате послышался незнакомый женский голос:
– Кто спрашивает? Какой Бабулин? Ах, муж!.. Ну тогда приезжайте.
– Куда?
– Как «куда»? В клинику. В какую ещё «Элегию», в клинику же, говорю. Не до вас мне… Всё!
Предпраздничная распродажа обернулась для жены выкидышем, двумя переломами и многочисленными травмами полегче. После месячного лечения в больнице её было не узнать: лицо серое, враз постаревшее, сама замкнутая, какая-то чужая, будто он повинен в случившейся с ней беде.
Фёдор Тимофеевич понимал её состояние, не лез со своими сочувствиями и расспросами, решил положиться на время: оно, говорят, лечит.
Ребёнка они оба очень хотели, и теперь, когда им сказали, что второго может и не быть, серьёзно переживали. Однако через несколько лет у них всё-таки появился Гришенька. Вместе с ним как бы возродилась и Ира. Даже согласилась на время оставить работу и полностью посвятить себя уходу за ребёнком.
Сынишка был очень похож на мать, отчего Фёдорова бабуля поначалу даже заметно переживала. В их Грачёвке они проводили каждое лето, со временем она привязалась к нему не меньше матери и теперь мечтала о правнучке. И всё торопила: поспешайте пока молодые, да и годы мои помните, своими глазами увидеть хочу.
Не увидела, сердешная. Похоронили её на пустынном родном погосте, где свежих могил, слава Богу, не появилось, а старые обильно заросли высокой травой.
Гришенька между тем рос, несмотря на любовный материнский уход, выглядел худеньким и слабеньким мальчиком. Фёдор Тимофеевич считал это результатом чрезмерной материнской любви и сугубо женского воспитания, пытался привнести в это дело и что-то своё, мужское, особенно когда в отпускное время жил с семьёй в деревне, однако ничто по сути не менялось.
Ирина заваливала сына дорогими игрушками, но пользоваться ими он не умел, а мать не считала нужным играть вместе с ним, приобщать к самостоятельности, будить в маленьком человеке такой естественный для его лет интерес.
Другое дело – Интернет, всякие стрелялки по ужастикам! Тут уж его не оторвать было, иначе – рёв, истерика, отказ от еды, бойкот и долгая, странная для его возраста озлобленность.
Материнское сердце отходчиво. Всё прощала, собственные справедливые требования отменяла, уступала во всём – лишь бы дитя не плакало, не портило свои нервы, а заодно и её.
Школа была интересна ему только тем, что сегодня он увидел у своих одноклассников. Дома, пока отец находился на службе, требовал у матери того же. Словом, это был типичный продукт утверждающегося общества потребителей, знающих лишь собственные желания и болезненного стремления не отстать от других.
А сколько зависти, сколько тщеславия! Какая конкуренция! Когда вошло в моду стремление «фоткаться» и «фоткать» всё, что им казалось забавным или курьёзным, соперничество стало всеобщим. Героем и супергероем считался тот, у кого круче смартфон, кто набирал больше просмотров-лайков. Всё остальное – «мусор». А разве «мусор» человек?!
В погоне за лайками забирались наверх своих домов, прыгали с балконов в сугробы, катались на крышах троллейбусов. Калечились, уродовались, но, как зомбированные, всё лезли, прыгали и фоткали, фоткали. Причём непременно с собственным присутствием в кадре. Предприимчивые деловые люди специально для этого придумали селфи.
Однажды, возвращаясь с работы, как всегда мимо школы, Фёдор Тимофеевич стал свидетелем потрясшей его картины: в школьном дворе, хохоча и улюлюкая, чем-то развлекалась толпа школьников. В середине её шла какая-то потасовка, похоже, кого-то избивали. Пригляделся – девчонки мутузят свою подружку. Особенно старается одна – не по годам рослая, грудастая, яростная. Удары кулаками в лицо, пинками в живот, в грудь. Злобные вопли, мат, подзуживание прыгающих вокруг мальчишек.
Праздник! Верх удовольствия! Все, боясь упустить что-то решающее, отталкивая друг друга, фоткают каждое мгновение.
Вначале девочка затравленно металась в тесном кругу беснующихся, надеясь вырваться и убежать, но круг был непробиваем. Наконец её сбили с ног. Подружки пинали и топтали её беззащитное тело, плевали ей в лицо, визжали от восторга и безумно хохотали.
Среди подростков Фёдор Тимофеевич увидел и своего Гришеньку… Фёдор Тимофеевич даже не понял, как вдруг оказался в центре круга, как легко и азартно расшвыривал во все стороны обезумевшую от азарта толпу, как поднял с асфальта сжавшуюся в комок девочку…
Сына он не вёл домой за руку, а буквально тащил, не слыша его жалоб на боль, так велик был его отцовский гнев. Напрасно он ныл, канючил и винил во всём других, отец безмолвствовал.
– Так это же Стасик всё придумал, – объяснял малец. – Купил букетик, подарил при всех Юльке, а та возьми, дурёха, и поцелуй его при всех же в щёку. А Симка, что давно глаз на Стасика положила, видела это. Ну и… Бабы же!.. Какой с них спрос?
– Как со всех, – разжал наконец губы отец. – Они же люди.
– Люди? Они?! Вот уж рассмешил! Стасик говорит: «юные самки». Это он специально, чтобы Симку достать.
– Подлец твой Стасик. А ты, как и другие, мелкий пакостник. Пока мелкий. Много гадкого нафоткал? Я же видел, как ты из шкуры лез ради лишнего лайка.
– Нафоткал бы… И всё-таки есть кое-что… Не мусор…
– Дай-ка взгляну… Ну вот…
Бесценный и бесконечно любимый Гришенькин смартфон так стремительно спикировал в асфальт, так смачно захрустел под его большими тяжелыми башмаками, что проходившие мимо люди в испуге шарахнулись на газон.
– Сейчас придём домой, помоешь руки, и чтоб звука твоего слышно не было. Таблицу умножения учить будешь. Не выучишь – осенью в первый класс посажу. Если с одного раза в твоей голове ничто не осело, начнём сызнова. Ну а новых твоих пакостей ни я, ни мать не потерпим. И новых цацек – тоже!..
Сын заливался горючими слезами. Он был оскорблён, унижен, лишён любимой игрушки, но плакал молча, бессильно, потому что очень испугался отца. Как теперь жить?.. Вот мама – другое дело…
Вскоре у него опять появились его любимые цацки, и он опять вслед за более сильными пацанами носился по крышам, цеплялся за троллейбусы и мечтал стать супером.
Не успел! Зацепился за провод высокого напряжения и упал под колёса шедшей следом машины. После похорон Фёдор Тимофеевич выдавил из себя лишь несколько слов – жене:
– Это твоя вина. Это ты убила сына.
И на несколько дней уехал в деревню.
Вернулся обросшим, неухоженным, заметно поседевшим. А на столе – тетрадный листок с несколькими словами наискосок:
«Прости, если можешь. Я была ему неважной матерью, а тебе плохой женой. Ухожу в монастырь замаливать свои грехи. Буду молиться за нас обоих. У тебя ещё могут быть дети, на развод я согласная. Господи, вот и всё!.. Ирина».
10
Лето этого года выдалось какое-то нервное, рваное, мечущееся от зноя в мае до первого снега в начале августа, от великолепных июльских дождей до нелепого града вслед за ними. В зной Фёдор Тимофеевич становился убеждённым сторонником потепления климата на планете, и Дарья Михайловна для этого находила убедительные аргументы. В дни, когда наперекор всяким срокам начинались снегопады, Дарья Михайловна поддерживала сторонников нового цикла оледенения и уже заранее беспокоилась за судьбу будущих вынужденных переселенцев.
Действительно – что-то в природе происходило непонятное людям. Не от этого ли что-то делалось и с ними самими? Откуда весь этот хаос, неразбериха, озлобление и трагическое равнодушие к тому, что есть сегодня и что будет завтра?
Несколько лет назад только и разговоров было, что о непременном Апокалипсисе и Армагеддоне с Судом Божьим в конце. Об этом, дескать, имеются авторитетные предсказания у всех народов. У древних майя, к примеру. Мол, их календарь, несмотря на седую древность, точно обозначил день и чуть ли не час этого конца. Но как потом установили учёные, этот календарь указывал лишь на конец одного цикла, одной эпохи, за которой последуют другие.
Тогда ещё вопросы планетарного климата не очень беспокоили науку. А теперь всё иначе, а по сути тот же конец. Если – потепление, то исчезновение ледников, смещение полюсов, этакий лихой кувырок Земли, в результате чего километровые океанские волны обрушатся на материки и смоют с них всё живое. То есть опять Великий потоп.
Если – оледенение, что уже случалось не раз и длилось с небольшими промежутками миллионы лет, то опять же беда. Пишут, а археологи доказывают, что наши далёкие предки арии, когда-то благоденствовавшие на нынешних северных окраинах теперешней Евразии, как раз из-за этого вынуждены были двинуться вслед за солнцем на юг и со временем (а это многие тысячелетия!) расселиться на обширных пространствах Европы, Азии и даже Африки.
И то, и другое – величайшие трагедии. Выживет ли человечество? И что нужно сделать, чтобы выжило?
Спроси об этом человека на улице – лишь пожмёт плечами. Верит и не верит, а подступающую изнутри тревогу и обречённость уже несёт в себе. Не они ли подспудно питают нынешние трансформации человеческой души? Не этим ли можно объяснить агрессивность, недоверие, подозрительность, маниакальное стремление подмять под себя весь мир?
Сегодня идут не только «дорожные», но и социальные, этнические, нравственные, античеловеческие войны. И потери в них не только в численности, но и в качестве населения земли.
Обо всём этом непременно заходил разговор у вечернего костерка, куда сходились оставшиеся жители Грачёвки, даже едва ли не столетний Мыкола Мовчун, то есть Кулиш. Слушали шелестящие голоса маленького радиоприёмничка, каждый на свой лад толковал последние новости, а они были всё тревожнее. Большой войны вроде бы не было, но вылазки террористических групп и группок всё учащались Это была какая-то особенная война. За ней стояли какие-то злые коварные силы, и легко угадывалось – какие именно.
– Они, что, больные на голову, если взрывают сами себя? – всё удивлялся Настасьин Рыжик.
– Это чтобы наверняка. И чтобы побольше убитых с собой на тот свет прихватить, – пояснял Стёпка Грачёв.
– Даже девчонки?
– Даже девчонки. Так задурили людям головы, что считают это за великое счастье.
– Что «это»? И какое тут счастье?
– Сразу попасть в рай. Никаких тебе страданий, никаких грехов – сразу к Аллаху. А уж там одни наслаждения, и, самое главное, – нас, «неверных», станет меньше. Сколько уже в наших городах жилых домов взорвали, больниц, школ, вокзалов… Сколько жертв!..
– Такэ вже було, – кивал белой головой Мовчун-Кулиш. – Тильки зазря кровушку льют. Бог, он для усих одын, он усэ видэ…
Следуя за радионовостями, разговор касался то одной, то другой проблемы, и всё в конце концов возвращалось к тому же – мир болен, ему грозят гибелью, хотя при этом погибнут и сами.
Когда вместе с Фёдором опять приехала и Дарья Михайловна, когда она вступала в их то затихавший, то снова оживлявшийся разговор, в этом всецело мужском кружке словно легче дышалось, лучше думалось, крепла надежда и вера в свою правоту.
– Это они мстят нам за нашу непокорность, за свои несбывшиеся надежды после крушения СССР превратить Россию в своего вассала. До этого, казалось, уже было рукой подать. Не вышло! Новая власть нашла в себе смелость и силы снова встать во весь рост. Теперь они боятся нас ещё больше и поэтому ненавидят.
Степан был более резок:
– Они, что же, не понимают, что обновлённая Россия не Ливия им, не Ирак, не Сирия, куда они полезли со своими моджахедами. Мы не боимся их, пусть они боятся нас!
Фёдор Тимофеевич, хотя и знал, спросил за всех:
– А ты, Степан, в каких войсках служил?
– В РВСН1.
– Стало быть, профессионал. Знаешь, что говоришь.
– Знаю, что если схлестнёмся, то это будет насмерть. Если что и выживет, то разве что-нибудь одноклеточное. А из него новый человек не получится никогда.
Жутковато становилось от таких разговоров. И не только в маленькой, затерянной в бесконечных российских просторах Грачёвке.
11
Однажды Дарья Михайловна сама напросилась к нему на грибы. Приехала с гостившими у неё сыном и уже почти взрослым внуком. Заодно догадалась прихватить пару баллонов со сжиженным газом, блок сигарет и несколько упаковок спичек. Фёдор Тимофеевич был рад гостям и благодарен за покупки, но, чего уж таить, больше всего её приезду.
На улице стоял золотой сентябрь, очередное похолодание с небольшим снежком сменилось ярким солнцем и почти летним теплом, старые заброшенные просёлки подсохли – в самый раз погрибовать.
Поскольку до ближайшего леска было далековато, отправились на машине. Все находились в превосходном настроении, в удаче не сомневались и едва достигли выбранного Фёдором Тимофеевичем места, сразу рассыпались по лесу. «Тихая охота» началась. Впрочем, совсем тихой она не получилась: то один, то другой подавал ликующий голос. Обилие свежих, чистых пеньковых опят вызывало восторг и детскую радость.
Когда первые пакеты и сумки наполнились, сошлись у машины передохнуть и покурить. Но лес звал, удача сама просилась в руки, вскоре разбежались опять. Оказавшись рядом с Дарьей Михайловной, Фёдор Тимофеевич не сдержался, высказал переполнявшее душу:
– Вот смотрю я на вас и завидую. Такая вы счастливая, Даша. У вас такие славные мужики! И, думаю, это ещё не всё.
Та действительно счастливая, вся зарделась.
– Не всё, конечно… Хорошие они у меня – и сыновья, и невестки, и внуки. Вот бы Коленька увидел, порадовался. Не довелось, а как было бы хорошо!..
Фёдор Тимофеевич, как и другие сотрудники, знал, как погиб её славный Коленька, майор органов внутренних дел Николай Соловьёв. В коротком злом бою со своими же оборотнями в погонах, промышлявшими самым настоящим разбоем…
Тяжко пришлось тогда Дарье. Однако с помощью родных, своих друзей и друзей погибшего мужа выстояла, вырастила сыновей и вот теперь помогает поднимать внуков.
– А у вас как?.. Разве что… – Дарье Михайловне, наверное, хотелось, чтобы и её бывший начальник, человек, которого она искренне уважала и, как ей казалось, хорошо знала, смог тоже с гордостью сказать что-то и о своей семье. – Разве что у вас так не принято? И вы такой молчун…
– Нет у меня семьи, Дарья Михайловна, – сказал он как-то в сторону, словно стыдясь своего положения. – Давно нет… Не сложилось, как у людей… Сам виноват… Все виноваты…
Чтобы внести ясность в сказанное, потребовалось всего несколько фраз. Они дались ему особенно тяжело – и о потерянном первенце, и о чадолюбии жены, и о гибели школьника сына.
– Ну а жена-то что? Как она-то?
– В монастырь какой-то ушла. Молиться за всех нас. Будто этим можно что-то исправить. Жить надо с умным сердцем, тогда и исправлять нечего будет.
– Я смотрю, всю вину вы приняли на себя, однако главного виновного в упор не видите. Это те и то, кто разрушает нашу жизнь, её душу, её вековые скрепы. Враг, это не только тот, кто из-за забора нож на нас вострит. Враг среди нас самих, в нас самих. И он пострашнее того, что народ наш назвал «дорожной войной». Мы сталкиваемся с ним на каждом шагу, глупо-вежливо уступаем путь и не задумываемся – доколе? Деревни вашей, как и тысяч других, уже нет, но походите по городу, приглядитесь, влезьте во все его поры и вы увидите их.
– Кого?
– Убийц ваших детей. Растлителей наших душ. Ядовитых змей, свивших себе гнездо в самом сердце России. Страшно это. Мне страшно. Ой, не могу!..
Разом ослабев после такой жгучей вспышки гнева и боли, она, как обиженный безутешный ребёнок, припала к его груди и разрыдалась…
На этом их «тихая охота» в тот день закончилась.
Назавтра по просьбе сына и внука Дарьи они ещё раз навестили это место, потом попутно в осиновой лесополосе нарезали отменных груздей и вернулись в дом. За обедом отец с сыном возбуждённо обсуждали так здорово удавшуюся «грибную экспедицию» и уже строили планы на следующие выходные. Садясь в машину, Дарья Михайловна порывисто обняла Фёдора и незаметно поцеловала в колючую щёку.
– Спасибо вам, гостеприимный хозяин. Вы доставили нам большое удовольствие. Берегите себя. И звоните, я всегда на связи. Буду помогать…
Он улыбчиво кивал – мол, да, да, непременно, и никто из них даже не вспомнил, что никакой связи с умирающей Грачёвкой давно нет.
12
Закончив необходимую работу в огороде, прежде чем отправиться на электричку, Фёдор Тимофеевич решил навестить Степана Грачёва. После того незабываемого «бабьего бунта» он это делал каждую осень. Вот и теперь решил подсказать, что в лесу опять накопилось много валежника, и попросить помочь соседям привезти его на своём тракторе.
Степан был тут единственным и, пожалуй, последним полноценным хозяином. В тот злополучный «пьяный» год его мать тоже, как и все, гнала самогон, а он носил его на станцию продавать. Деньги выручал большие, хотя и «деревянные», быстро теряющие ценность, но ему их хватило, чтобы перекупать у сборщиков металлолома всякие «железки» – где борону, где сенокосилку, а в одном месте даже брошенный «Беларусь» с прицепной тележкой. Немалых трудов стоило всё это заставить греметь, крутиться, пахать, косить. Всем огороды пашет, собранный в лесу валежник и бурелом доставляет. Только заготовь сам и место укажи.
Что ещё подкупало в этом немногословном работящем человеке, так это то, что народил с супружницей полдюжины ребятишек, и все одеты-обуты, воспитаны. Старших пристроил на постой в деревне, где школа ещё действует, каждую неделю привозит их помыться в баньке и отвозит обратно с недельным запасом еды. Эти не пропадут, за них он спокоен.
Глядя на него, соседка Настасья тоже взялась за ум – перестала кланяться стакану, навела порядок в доме, а её Рыжик вместе со Степановыми детьми учится в школе. Как говорится, Бог в помощь горемычной.
С лёгким сердцем, хотя и не без грусти, простился Фёдор Тимофеевич с родным гнездом и отправился зимовать в город. Лето кончилось, пора кое-что подытожить и взяться за новый материал, который для него накопала Дарья Михайловна в своём Интернете. И прежде всего встретиться с ней. Дарья – большая умница, а заодно и тонкий психолог; опыт, накопленный ими за годы совместной работы в комитете народного контроля, – хорошая опора в таком непростом деле.
Отыскав свой сотовый, а затем и зарядное устройство к нему, он тут же включил его в сеть и, пока тот вбирал в себя необходимую ему энергию, перечитал написанное прежде. Не первый, далеко не первый вариант, а всё не то! Дарья Михайловна настойчиво советовала отойти от стиля чиновничьего доклада, с одной стороны, и излишней «митинговой» эмоциональности, с другой. С читателем, дескать, нужно спокойно и вразумительно беседовать.
Дарья Михайловна встретила его домашними пельменями с грибами и фруктово-ягодным компотом, от которых так и веяло грачёвскими лугами и перелесками.
– Хорошо и с пользой провели мы с вами это лето, – ворковала она, усаживая его за стол, – а теперь есть что вспомнить и чем побаловать себя.
– Да я уже перекусил, – стушевался он, как мальчишка, оказавшийся в чужом доме. – У меня, конечно, всё проще – бутерброд с сыром, яичница…
– Эх вы, мужчины! Но теперь уже не лето, а зимы у нас долгонькие. Тут уж я за вами пригляжу!
И неожиданно поинтересовалась:
– А супруга, уходя, не сказала, какой именно монастырь для себя выбрала?
– Одно знаю – женский. А вот где…
– Это понятно, – усмехнулась, – что не мужской. Если поискать…
– Не надо искать, Дарья Михайловна. Улетевшего ветра не воротишь.
После обеда вернулись к своим уже привычным темам. Вот ведь загадка: население планеты быстро растёт, и в то же время число погибших на транспорте, в природных и технических катастрофах, от голода, эпидемий и – надо же! – неудержимого переедания растёт тоже. Только у нас от алкоголя гибнет до трёхсот тысяч человек в год, а на планете от «недостаточной физической нагрузки», как это квалифицируется наукой, – до пяти миллионов. Конечно, когда ты разжирел до двухсот и даже до пятисот килограммов, долго не протянешь. Белая раса везде отступает, скукоживается, а замещающие её другие расы, как бы активно ни плодились, по уровню своего развития пока лишь рабочая сила. Попытки как-то отрегулировать этот непростой процесс пока что малоэффективны. Что впереди?
Ниточка, за которую они потянули, завела их в такие дебри нарастающего хаоса, что они растерялись. Придётся остановиться, оглядеться и попытаться начать с того, что ближе и понятнее, чем сразу тянуться за горизонт. Договорились, что он закончит свои «дорожные войны», а она займётся вопросами питания, стремительно превращающегося из средства жизнеобеспечения в средство весьма и весьма противоположное. Конечно, можно прихватить и что-то ещё, ведь жизнь так сложна и многообразна.
И ещё: не надо надувать щёки и корчить из себя всезнающих учёных. Они просто неравнодушные к стране и миру граждане и хотят, чтобы таких людей стало больше.
Не один стакан компота выпили, пока не пришли к согласному решению относительно формы подачи материала.
На этом и расстались до новых встреч и бесед.
13
«Счастливые часов не наблюдают», – сказано точно. Однако не только счастливые, но и те, кто занят большим, сложным, очень нужным и интересным делом – тоже. Дни летят минутами, недели перестают существовать, потому что разделяющие их выходные дни пропадают сами собой, лишь месяцы дают почувствовать первую усталость и радость от совершённого. Может, эту радость кто-то принимает за счастье?
Нет, счастья Фёдор Тимофеевич не чувствовал: бумагу заполняли всё новые и новые цифры, факты, похороненные, спасённые, осуждённые…
Жуткие картины наблюдались и там, где их даже не предполагалось увидеть: у вокзалов, супермаркетов, заправок, административных центров, рынков. Ни одного места без мордобития, везде находились личности, почему-то считавшие себя особенными, для каких законы взаимоуважения, порядка не писаны и кому дозволено всё.
Когда и почему эти люди потеряли себя? Когда общество, опьянённое новыми возможностями, очертя голову ринулось в рынок, который всему – единственная мера? Когда масса новых успешных в одно горло заорала: хотим, чтобы и у нас было, КАК У НИХ? У них, конечно, тоже встречаются такие недоумки, но за века их рынок приучил всех к ПОРЯДКУ. Их рынок приучил людей к бережливости, там хозяин сегодня помятого средства передвижения уже завтра не побежит за новым.
Поменялась сама психика людей. Наш автовладелец ни за что, даже в опасную гололедицу, не отправится на службу в общественном транспорте, не пройдётся пешочком в магазин за углом, чтобы купить вожделенную баночку пива, – как можно!
Да, меняется, мельчает народ. Особенно тот, что всегда на виду, что задаёт тон в любой тусовке, что очень ценит и любит лишь самого себя.
А сколько среди нас скромных, доброжелательных и неброских мужчин, женщин, парней и даже мальчишек! Они наводят порядок на парковках, спасают тонущих, выносят из огня гибнущих и, случается, гибнут сами.
В его записях таких фактов немало. Вот одна из последних. На красный свет перехода улицы, кто спокойно – таков закон, кто заметно нервничая – осточертела эта серая пехтура! – все пресекли свой бег, давая пешеходам возможность спокойно перейти на другую сторону. Кроме одной! Шаркнув сияющим бортом по боку терпеливого соседа, она сходу-слёту смела с «зебры» молодую женщину с ребёнком и, даже не обернувшись, понеслась дальше.
Когда загорелся зелёный, пара машин ринулась следом, где-то во дворе блокировала хулиганку и вызвала полицию. Прибывшая неотложка констатировала смерть ребёнка, а мать увезла в реанимацию. Назвать себя парни отказались, только безнадёжно отмахнулись: эту стерву ещё попробуй посади!.. Они думали о главном.
А Степан Грачёв в его деревеньке? Если бы не он, да ещё Мыкола Мовчун со своей дочкóй, никого бы там уже не было. Говорят, человек живёт землёй. Но и земля жива человеком, его добрыми руками, его золотой душой. Такие есть, ими держится жизнь, какой бы она ни была.
Понемногу, с опаской вернулся Фёдор Тимофеевич и к своему телевизору. В нём всё поют и пляшут, стреляют и взрывают, но он безжалостно отключает канал за каналом, пока не попадёт на спорт или живую природу.
Много новостей со всего света. И тут тревожно. Тут уж не мертвецкой пахнет, не застоявшимся духом покойницкой, а смрадом и гарью новой большой войны. Боги и вдохновители её – всё те же. И опять на пути её – Россия. Почти одинокая. Только-только выходящая из трясины переворота, организованного для неё теми же богами и вдохновителями. По столичным улицам и площадям Европы открыто, с гордостью победителей маршируют новые фашисты. Из заокеанских далей грозят ей ядерными кулаками. Россия им – кость в горле: не проглотить, не выплюнуть. Её, во всём повинную, виноватую уж тем, что она есть, нужно во что бы то ни стало уничтожить, расколоть, раздробить в пыль. Однако попробуйте, господа! Полюбуйтесь её заново возрождённой богатырской силой, её новой могучей оборонной техникой, которая при надобности до любых пределов достанет. У неё же вообще пределов нет!
Новую российскую армию часто показывали во время её учений на суше, в небе и на море. Подробно рассказывали, чем именно та или иная техника превосходит любую зарубежную. Да так наглядно, что сердце Фёдора Тимофеевича сжималось уже не от восторга, а от опасения: зачем так открываться, враг не дремлет, всё переймёт, ибо тоже не дурак. Но что-то подсказывало ему, глубоко гражданскому человеку: значит, и это не предел, есть что-то ещё более грозное, что уже в работе, но знать о том ни своим, ни чужим не положено.
Так шли месяц за месяцем, даже новогодние праздники пролетели – не до того.
Как-то Фёдор Тимофеевич заметил, что его мудрая наставница и союзница Дарья стала очень уж печальна. Пытался взбодрить её своими восторгами от её бесподобных супов и компотов – лишь грустно улыбнётся, зябко передёрнет плечами и снова уйдёт в свои потаённые думы. Наконец не выдержала и она, призналась:
– Тяжело мне, друг мой, сил уже нет. Твои «дорожные войны» хоть и кровавы, хоть и конца им нет, но там всё на виду, всё кричит и корчится от боли, и в этом её крике может выкричаться и твоя душа. А тут всё тихо, мирно, на вид даже благородно, однако в этой долгой тягучей тишине творится такое, такое… И в таких масштабах!.. Нет, вы даже представить себе не можете, и я не представляла прежде… Не представляла, пока всё это не собралось, не обнажилось, не очистилось от лжи.
На этих «дорогах» тоже идёт война – невидимая, растянутая во времени, «подслащённая» тяжёлыми пестицидами, генами саранчи, скорпионов, ящериц, пауков… Генно-модифицированная продукция, этот дешёвый тихий яд, возведена в культ. Есть и чистая, но очень дорогая, для богатых, избранных. Те приобретают её в магазинах специальных клубов.
На ГМО работают целые научные институты. Большего цинизма и представить себе невозможно. Есть, конечно, и честные учёные, но их перекупают фирмы-монополисты. Или с помощью СМИ выживают «свои люди», которые у них везде. Человеческая жизнь там уже мало чего стоит. Она сегодня оценивается в химических и биологических лабораториях, в банках и «Макдоналдсах». «Золотому миллиарду» для его обслуживания хватит и трети сегодняшнего населения планеты. Здоровой, разумеется…
– А оно всё растёт и растёт, – вздохнул Фёдор Тимофеевич. – Значит…
– Значит, и их ждёт такая же судьба. Они даже не догадываются, что с ними делают. Рожают на свет всяких уродцев-мутантов и не догадываются. Как голодные дети, которые проглатывают всё, что им положат в рот. Вот в той же Африке, в бедных странах Азии и Американских континентов…
О, святая русская душа, ты всё та же! Никогда не была в этой самой Африке, никогда не делила выброшенную циновку с бездомными в ночной Калькутте или в ночном Марселе, не делила с ними их беды и муки, а страдаешь за всех. Люди ведь, люди, Господи! Стало быть, братья и сёстры, одной Великой Матери дети!..
Выговорившись, оба долго молчали.
– А всё-таки у нас, в России, лучше. У нас и о ГОСТах ещё не забыли, – первым нарушил это долгое молчание Фёдор. – Не так, Дарья Михайловна?
– И так, и не всегда так, – как-то нехотя, устало отозвалась та. – Кстати, вы не обратили внимания на меню в наших нынешних ресторанах, кафе и всяких забегаловках?
– Мне незачем. Я в них не питаюсь.
– Всё перекусываете?
– Не ходить же голодным. Тем более что с массой тела у меня всё в порядке.
– И не наскучило? И здоровье вас не беспокоит?
– А что делать? Не жениться же старику… На такой славной женщине, как вы, и каких на свете больше нет… Ну, это я… извините… больше не буду… Виноват…
– Люблю шутников, – как-то загадочно усмехнулась Дарья. – Так вот… О чём у нас шёл разговор? Ах, да! О том, чем сегодня кормят в российских заведениях общественного питания. Запоминайте, пригодится, когда будете свадебный стол заказывать. А впрочем, вы, русский человек и патриот, заказывать там ничего не станете. Потому что никаких русских блюд там не бывает. Ни борщей, ни солянок, ни курников с кулебяками. Зато везде и всюду – гамбургеры, чизбургеры, шефбургеры и тэ дэ.
– Ну, ясно, на вкус бюргеров работают. А наши, поди, жрут и не давятся?
– Жрут, Фёдор Тимофеевич, за огромные деньги жрут! И чем больше едят, тем больше им надо. Как наркоманы какие-то.
– И ещё, поди, хвастают?
– Ну как же! Ради этого и в «Макдоналдсы» наезжают. И ещё заметьте: все хозяева с шеф-поварами – иностранцы или товарищи «восточной национальности». И это, как вы догадываетесь, тоже одно из средств размывания, вымывания нашей собственной культуры, нашей русской души.
– Лихо, однако! – вскочил Фёдор Тимофеевич. – И тут, выходит, конец света?!
– Конец ещё одной эпохи. Никакого конца света не случится, но…
– Но…Эпоха Конца? Или всё-таки Конец Эпохи?
– По-русски говоря, хрен редьки не слаще.
– Пережуём!..
…Пожалуй, так оно и есть, никакого гибельного для землян исхода не будет. Просто, исчерпав себя, завершается ещё один космический цикл, кончается ещё одна историческая земная эпоха. Тяжко и больно кончается. Не вдруг и не враз. А приходящая ей на смену… какой окажется она? В своём календаре мудрый народ майя об этом почему-то умолчал. Умолчал и навек растворился в своей древней древности, какой теперь с него спрос?
14
Всю зиму они трудились так, словно именно от них зависело, сколько человек ещё погибнет в «дорожных войнах», сколько навсегда останется калеками, сколько осиротеет семей. А вконец расстроенная Дарья Михайловна всё чаще беспомощно разводила руками: мол, что она может поделать с этим сошедшим с ума алчным миром, если тот сам создаёт для себя всё новые и новые беды и, похоже, сам торопится к своему концу? Человек на планете Земля! Какой долгий и мучительный путь прошёл он за миллионы лет к вершине своего нынешнего благополучия. Кажущегося благополучия! Видя только свои успехи и победы, он так очаровался собственным величием, так бездумно разрушил в себе самое высокое и прекрасное, что уже вступил на путь самоуничтожения. Что новое оледенение, что новый великий потоп, которые случатся или нет, уничтожат всю земную жизнь или что-то пощадят, если человечество само возжаждало своей гибели!..
Подавленная этими жгущими душу мыслями, она чувствовала себя такой маленькой, такой бессильной, такой обречённой и одинокой, что казалось, уже никогда не сможет радоваться простому человеческому счастью – видеть небо, солнце, цветущий луг, играющих детей. Чему противостоять, она теперь хорошо знает, но что противопоставить ему? Где взять силы ей, одинокой, слабой женщине? Кто подставит плечо? Кто поделится своей волей?
Собираясь вместе с Фёдором Тимофеевичем в его уже отогревшуюся после зимы Грачёвку, она так и сказала ему:
– Увози меня, родимый, подальше от этого Интернета, телевизора, от этих гибельных снов, после которых не хочется жить.
– Каких снов? Всё тех же? – вздохнул он и тяжело уронил свою умную седую голову.
– Всё тех же… С гадкими монстрами с ужасными человеческими мордами – для фастфуда, с синтетической обжираловкой – для новых тысяч всеядных, с самодовольным хрюканьем возмечтавших себя владыками мира человекоподобных существ. Страшно мне здесь. Хоть на твои спасительные грядки увези.
– Уедем на всё лето. Только ты успокойся. У нас же пока этого нет.
– Пока… Вернее – пока не всё уже есть. Но мы такие податливые, такие переимчивые. Всё на ИХ манер поём и пляшем. А надо бы… ой как надо бы… обезопасить себя не только могучей боевой техникой, но и под стать ей боевой волей…
– Есть у возрождённой России воля. Та ещё! А переимчивые… что ж, они у нас всегда были. Разберёмся. И люди для этого есть. Вот мы с тобой, к примеру…
– Мы с тобой… Ты уже собрался?
Незаметно для себя они уже давно перешли на «ты», как близкие друзья и единомышленники. Едва добрались и отдышались с дороги, Фёдор – за лопату.
– Ты – копать? А земля уже поспела?
– Подсохла, копать в самый раз. А ты попей чаю, отдохни.
– Нет, пока ты копаешь, я в доме приберусь. А как устанешь, попьём вместе.
– Хорошо. Какая ты у меня молодчина!..
Лето на этот раз выдалось хорошее, типично уральское, не дающее повода для гаданий о потеплении или похолодании планетарного климата, и никто в отличие от холодной зимы, кажется, не гадал. Приёмник, получивший новенькие батарейки, говорил о чём угодно, но об этом тоже помалкивал. То ли устал, то ли учёные как-то поладили между собой. Словом, лето стояло прекрасное – с урожайными грядками, обильной луговой земляникой и даже шампиньонами, высыпавшими на заброшенных подворьях деревеньки.
Шампиньоны – редкое счастье любого грибника, а тут их было столько, что хватало на всё – и на поджарку с молодой картошкой, и на сушку, чтобы побаловать себя зимой их бесподобным ароматом. Собирали, чистили, резали, запасали впрок. Как и землянику, без которой никакого чаепития себе уже не представляли.
К своим статистико-публицистическим этюдам возвращались редко, лишь для необходимых уточнений и крайне необходимых дополнений. Порой задумывались: а напечатают ли? С одной редакцией, которая отличалась известной смелостью, в принципе договорились, но это лишь предварительно. Окончательное решение последует после прочтения. Законченную рукопись ждут в сентябре.
Не дожидаясь обговоренного срока, заторопились в город – внести необходимые поправки на компьютере и распечатать текст в нескольких экземплярах. Они так разволновались, что даже в вагоне электрички продолжали что-то обсуждать, в чём-то сомневаться, за что-то всерьёз тревожиться. Наконец Фёдор Тимофеевич по-мужски решительно и однозначно положил всему этому конец.
– Ну, всё, Дашенька, всё! Нечего себя так взвинчивать и паниковать. Мало ли что нам кажется! Будет ли интересно читателям? А ты просто перечитай хотя бы заголовки. Вот, к примеру: «Помните: доверив человеку руль, вы доверили ему собственную судьбу», «Защита виновного за мзду равносильна соучастию в преступлении», «Дорога, дорога, сколько стоит моя жизнь?», «Атака на нравственность – покушение на заветное», «Конца света не нужно – человечество уничтожит себя само!» Ну как?
– Это для нормальных людей, – снова вздохнула Дарья. – Я очень хочу быть понятыми ими, хочу, чтобы их стало больше, чтобы они наконец стряхнули с себя свою безответственную дремоту.
– И я того же хочу! Но одного этого мало. Нужно, непременно нужно, чтобы нашей тревогой прониклись и люди власти. Честные люди власти. Вся власть, раз дело зашло так далеко!
– Ты в это веришь?
– Вместе с тобой. Иначе…
На этом их последний разговор кончился, потому что электропоезд доставил их в пункт назначения. Почти вся привокзальная площадь была плотно занята многоцветным стадом автомобилей с характерными «шашечками» на боках. А вот возможных пассажиров почти не виделось: не тот час.
К ним – и к Фёдору, и к Дарье – кинулось сразу несколько водил. И все тянут в свою сторону. Едва не подрались, пока до них наконец не дошло, что они вместе, что им нужна лишь одна машина. Верх взял самый бойкий и вёрткий, стремительно покидал их сумки в багажник, вскочил на своё место за рулём и ещё накричал на них, что долго возятся, а у него каждая секунда на счету, и что время – деньги.
Едва двери захлопнулись, машина рванулась на площадь, с визгом развернулась и понеслась. Улица была далеко не главная в городе, всего лишь двухпутная, движение на ней не отличалось особой загруженностью, но водитель так гнал свою изрядно потрёпанную машинёшку и так без конца что-то выкрикивал, размахивая руками, что Фёдору Тимофеевичу сами собой вспомнились слова: «Помните: доверив человеку руль…» Вспомнить до конца не успел – обходя очередного «тихохода», такси на бешеной скорости лоб в лоб врезалось в огромный грузовик. Визг, скрежет железа, тьма. Тьма и тишина, которых уже некому было осознать.
…Когда Фёдор Тимофеевич в первый раз очнулся, выходя из комы, то ничего не понял. Лишь потом, находясь в реанимационной палате, он смог увидеть себя, всего белого, опутанного паутиной каких-то то ли проводов, то ли шлангов. Странно увидел – откуда-то из-под высокого потолка, из какого-то прозрачного голубого облачка, которым был как раз он сам, а кто был тот, что, белый, лежал распростёртый внизу, был ему незнаком и никаких чувств у него-облачка не вызвал.
В другой раз, когда он уже начал догадываться, что с ним произошло, неподалёку от своего лежбища он увидел невысокую странную фигуру. Вся – с головы до пола – в чёрном. Не Дарья. Или просто привиделась? Хотел что-то спросить, но ту быстро вывели из палаты. И он тут же забыл о ней.
Лежал в палате один. Его не тревожили расспросами, всё читали по мудрым приборам. Зато ему очень хотелось спросить, что с Дарьей, где она сейчас? Однако говорить ему не позволяли, предупредительно уходя от его возможных вопросов: «Потом, потом… Обо всём потом. Выживешь – узнаешь».
Он выжил и узнал, что таксист и ехавшая вместе с ним женщина погибли во время аварии и давно похоронены. Ну а ему, раз живой, надо набираться сил. В рубашке родился, счастливец.
Чёрной женщине разрешили побыть с ним. Он спросил, кто она, и та ответила тихим, почти забытым голосом:
– Раба Божия инокиня Ефросинья. В миру – Ирина… Молюсь за тебя…
2017
1 РВСН — ракетные войска стратегического назначения.