Улитка Фудзи
Улитка Фудзи
Тихо-тихо ползи, улитка,
По склону Фудзи, вверх
До самых высот.
Коболси Исса
Хайку. Япония. XVIII век
СПРАВКА
Виноградная улитка (Helix pomatia) — наземный брюхоногий моллюск. Обитает в зарослях кустарника, на светлых лесных опушках, в садах, парках. Улитка бодрствует с весны до холодов, после чего зарывается в почву на глубину до 30 см и впадает в анабиоз. Улитка может дожить до 20 лет, если не будет съедена хищником. Зарегистрированный рекорд равен 30 годам. Однако в данном случае особь содержалась в домашних условиях.
* * *
— Ты хоть знаешь, Всеволодька, что за образ такой — улитка, ползущая по склону японской горы Фудзияма?
— Улитка — она и в Африке улитка…. Чего ты так переживаешь? Купим тебе в зоомагазине другую улитку. Будешь по утрам кормить ее капустой…
— Улитку Фудзи нельзя купить. Она одна, и ее нельзя вытоптать сапогами. Она ползет и ползет к вершине.
В телефонную трубку я хорошо слышу, как рыдает моя Элька. И далась же ей эта улитка, кем-то растоптанная вчера на газоне у Крымского моста.
Мне жалко мою рыжую бестию, Эльку.
* * *
Лето было невыносимым. Дым от горящих торфяников, который называли по-модному «смог», давил, душил. К тому же жара — практически тропики. Дым спустился даже в метро, и, когда из тоннеля выскакивал поезд в сизых клубах, казалось, что это не реальность, а фильм с апокалиптическим сюжетом.
Да, было то самое душное лето, о котором потом долго вспоминали. Даже те, кто из Москвы попросту предусмотрительно свалил. У меня такой возможности, увы, не было: работа. Арбайтен, как говорит мой друг Поппинс. Но я все равно вспоминаю страшное дымное лето с благодарностью. Потому что именно тогда я впервые понял, что могу жить во сне осмысленной жизнью. И — более того — встречаться там с ней. С Элькой.
Как это было впервые? Я прекрасно помню. Я крутился без сна в своей крошечной квартирке в Жулебине. Квартирка — «однушка», взятая в ипотеку, но все чин чинарем. Полный фарш, как, опять же, говорит Поппинс. Встроенная кухня, теплый пол в ванной, где пол, кстати, черная плитка. И на стенах тоже — черное с золотом. Готичненько так. Раскладной белый кожаный диван, плоская плазма напротив. Кондиционер, он же кондюк. Кондюк от смога не спасает. Только гоняет вонючий воздух. Я подхожу к окну и открываю его настежь. В доме напротив (такая же двадцатичетырехэтажная башня) половина окон — нараспашку. В одном из окон, на шестнадцатом этаже, торчит мужик с голым пузом. Курит. Он смотрит на меня — я тоже голый по пояс, только пузо не такое большое. Мужик машет мне как знакомому. Я понимаю: знак приветствия и союзничества, — мы все в одной большой подводной лодке, куда с нее убежишь. Нас давит невыносимая жара и дым. Мужик не знает: я давно уже мечтаю о том, чтобы умереть. Пусть от дыма, — какая разница, от чего.
Голопузый бросает вниз окурок; я смотрю за траекторией полета. Мне прекрасно видно, что этажом ниже, на пятнадцатом, открытое окно завешено простыней. Я лениво думаю: затянет туда бычок или нет? А то можно будет посмотреть шоу с пожарными. Никогда не вздумайте сказать: «пожарники». Только — пожарные. Для огнеборцев смертельная обида быть названными пожарниками. Ну, это так, к сведению.
Я ложусь на свой белый диван. Кручусь под простыней. Потом — иду принимать душ. Холодный. Помогает совсем ненадолго. Потом — опять кручусь, лягаю простыню. Ложусь на пол. Здесь, кажется, прохладнее…
Забываюсь только под утро. Мне кажется, что я вовсе не сплю. Я как будто встаю и вновь подхожу к открытому окну, и в доме напротив, на шестнадцатом этаже, вместо голопузого мужика вижу мою Эльку. Ее рыжие волосы развеваются. Она смеется — я отчетливо различаю белую полоску зубов. Я понимаю, что это сон, ведь Эльки нет, она погибла год назад. Но я тяну к ней руки и пытаюсь крикнуть ей: «Иди ко мне! Что ты там делаешь, дома у толстяка?» И она поднимается на подоконник, прыгает вниз… и вдруг оказывается у меня в комнате.
— Что ты мне говорил? Я не слышу.
А я не могу ничего ответить. От дыма я кашляю, задыхаюсь. Она легко убирает с лица рыжие пряди и говорит:
— Я почитаю тебе свои новые стихи.
И начинает декламировать: «На лодке одиночества я уплываю навсегда. И рядом нету общества — но это не беда. Осознавать не хочется, что больше не вернусь…»
Это не ее стихи. Списала, обманщица. Списала у меня. Когда-то, в детстве, я написал стихотворение. Все говорили, что неплохо получилось.
Откуда она узнала мои стихи?! И надо же — выучила наизусть…
Я счастлив еще и потому, что Элька снова рядом.
Хоть и знаю, что это просто сон, но я заставляю себя оставаться в таком вот потустороннем состоянии. Я заставляю себя не проснуться. И потом я вспоминаю, как тянул к Эльке руки из окна. И руки — слушались. В отличие от голоса… Один хрип да кашель…
И я вновь заставляю свои сонные руки подняться и прикоснуться к ней. И коснуться ее волос. Как я скучаю по ее рыжим волосам-пружинкам. Я могу поклясться, что чувствую их. Они невесомые и пушистые. «Не уходи… Элька…» — хочу сказать, но опять проклятый дым! Я просыпаюсь.
Во рту сухо и горько.
А руки у меня — подняты, потому что только что я гладил мою Эльку по непокорным волосам. Она была здесь.
Сердце мое колотится, а подушка мокрая от слез.
И в окно бьет солнечный свет.
Лето, светает рано.
Шесть часов.
Пора вставать.
* * *
Я проснулся с колотящимся сердцем.
Я видел ее — Эльку — как живую. Да нет, она и была живая! Я не мог ошибиться.
И даже моя подушка чуть слышно пахла мимозой. Ее любимые духи…
* * *
Так в моей жизни появились осознанные сновидения. Да, услужливый Интернет подсказал мне, что многие уходят в параллельную реальность. Учатся управлять своим телом во сне. Совершают головокружительные полеты, встречаются с теми, кого уже нет на Земле. Объедаются самой вкусной и разно-образной едой. Путешествуют не только по всему земному шару, но даже и в других галактиках. В сети их называют попросту О.С.
Тема показалась интересной.
Как-то получилось само собой, что я стал называть необычное явление «осознанкой». Так было проще и короче, не отдавало псевдонаучностью. Наверное, мой термин возник от другого словечка, которое одно время было полузабыто в городе моего детства Торжке. Может быть, «варёнка»? Или — «продлёнка»? Я вспоминал и вспомнил. В 90-х годах уже прошлого (увы!) века молодежь уходила в бандиты. Назывались ОПГ — организованная преступная группировка. Тогда и появились, и стали популярными среди подростков новые понятия — «зона», «париться на киче», «откинуться». И еще — «уйти в несознанку». Уходили в несознанку заматеревшие уголовники, бандиты и просто «реальные» пацаны из Торжка. Они не признавались в преступлениях, путали следователей и с гордостью, как герои, отправлялись на тюремные нары. Они еще не знали, что из «несознанки» нет возврата.
Я сразу подумал, что «осознанка» — это цивилизованней и благороднее. Это гораздо лучше, чем «тянуть срок» и вернуться в родной городок с синими наколками. В Торжке матерых уголовников называли «синенькими». И, конечно, я знал — из осознанки можно всегда вернуться. Неужели я ошибался?
Я решил овладеть этим искусством — осознанными сновидениями. Потому что мне нужно было видеть Эльку. Впрочем, у каждого из тех, кто начинает жить параллельной жизнью — во сне, — есть свои причины для того, чтобы так делать…
На одном дыхании я прочитал «Искусство сновидений» Кастанеды и главного практикующего гуру Стивена Лабержа. Лаберж, можно сказать, основоположник научного подхода к осознанным сновидениям. Я и предположить не мог, что книга «Практика осознанных сновидений» так популярна…
Куча сайтов, которая предлагала узнать, насколько глубока кроличья нора. Люди, предлагающие взломать матрицу мироздания, стереть стереотипы мышления…
Итак, что же такое осознанное сновидение? Во-первых, сон, в котором человек знает точно, что он спит в своей постели. И, тем не менее, он строит в своем воображении удивительный мир, порой мир сновидений даже реальнее обыкновенного. Мысли материализуются мгновенно — и ты можешь, по своему желанию, поменять, например, цвет неба. Или полететь. Проходить сквозь стены, нарисовать вокруг себя другой пейзаж.
Говорят — многие великие люди активно использовали для своих достижений практику осознанных сновидений… Менделеев «увидел» там свою Периодическую таблицу. Многие сочиняют во сне свои лучшие мелодии — тут на память приходит Бетховен. Большинство художников-сюрреалистов черпают темы для своих картин в сновидениях. Да и я вспомнил, как мне — еще в школе — пришло в голову очень неплохое стихотворение. То самое, что читала мне Элька.
Я помню его до сих пор — написанное корявым детским почерком, оно торчит за стеклом в серванте у моей мамы… Она и рисунки мои хранит. Кажется, рисунки у меня получались лучше.
На лодке одиночества
Я уплываю навсегда,
И рядом нету общества —
И это не беда.
Осознавать не хочется,
Что больше не вернусь,
А океан соленый мой
На вкус как моя грусть.
И веслами уверенно
Вперед себя толкал,
А океан мой медленно,
Тихонько остывал.
И знаю я отчетливо:
У каждого он свой
Свой океан бессмысленный
Соленый и пустой.
На лодке одиночества
Уплыл я навсегда,
А рядом лишь холодная
Соленая вода1.
Откуда строчки взялись? Я никогда не сочинял стихов. Но помню, как пошел первый снег, я перед сном смотрел на него из окна. Было очень тихо, очень торжественно. Во дворе бегала дворняжка по кличке Лайка. Она подпрыгивала, глупая, ловила зубами «белых мух»… Заснул я довольно поздно, а под утро проснулся с колотящимся сердцем. В подсознании у меня сложилось стихотворение… Я вскочил и быстро записал его: утром хотел показать родителям… А потом снова лег и заснул так крепко и сладко, как спал разве что в младенчестве. Утром мама разбудила меня в школу. Просыпаться не хотелось, в постели было так тепло и уютно…
На столе белел листок бумаги. Я увидел его и вспомнил, что написал ночью стихотворение, — мое первое стихотворение! Прочитал его и был удивлен, поражен. Откуда взялось? Как будто кто-то надиктовал.
Больше стихи мне не снились, хоть я и ждал.
Кто из нас в детстве не летал во сне? Полеты казались естественными и прекрасными. Родители говорили: ты растешь. Я вырос и перестал летать. А может быть, просто перестал запоминать свои сны.
И вот — сон наяву, Элька в моих объятиях. Рыжий огонь волос, бархатная щека, изящное запястье.
Я готов отдать что угодно ради того, чтобы вновь тебя увидеть, Элька.
* * *
В Сети я познакомился с одним человеком. Его звали Сокол, он был продвинутым в мире осознанных сновидений.
Он научил меня, как, потренировавшись, можно попадать в осознанный параллельный мир.
Во-первых, надо ложиться вечером — и спокойно спать. Это важно, потому что организм должен быть отдохнувшим и готовым к путешествию.
Во-вторых, надо поставить будильник за два-три часа до времени обыкновенного пробуждения. Для меня — шесть часов утра. В восемь встаю на работу, когда у меня утренняя смена. Клиника открывается в десять, я прихожу пораньше… Впрочем, не важно.
В-третьих — проснувшись в шесть утра, надо быстро умыться холодной водой, чтобы взбодриться. Потом лечь на правый бок и глубоко и быстро дышать где-то с минуту без пауз между вдохом и выдохом. Умывание взбудоражит сознание, а тело остается расслабленным и мозг работает в режиме сновидения. Перенасыщение мозга кислородом возбуждает сознание, а спящее тело тянет обратно в сон; надо засыпать спокойно, думая о том, что проснетесь вы в осознанном сновидении. Как будто медленно-медленно вы ползете вверх по склону.
Да, ползти трудно, но зато на вершине вас ожидает много света!
Минут через пять, скорее всего, я неожиданно обнаружу себя во сне. В осознанном сне…
Сокол объяснял мне, что новичку довольно трудно понять — в реальности он находится или спит? Для этого, советовал Сокол, надо пользоваться простейшим способом Карлоса Кастанеды. Рассматривать свои руки. Если ты в мире снов, то руки могут, например, обрасти дополнительными пальцами или видоизмениться до клешней; ощутить свои руки в осознанном сновидении — это очень важно. Еще один совет от Кастанеды — попробовать дотронуться кончиком языка до своего нёба. Во сне может показаться, что нет ни языка, ни нёба, но это как раз и есть главное доказательство, что всё идет как надо.
— Попробуй прочитать любой текст больше одного раза. В реальном мире содержание текста не меняется на второе прочтение; в сновидении же текст расплывается, слова причудливым образом меняются. Посмотри на часы, если они, конечно, есть. О, в сновидении стрелки могут крутиться в обратном направлении, менять месторасположение, а что вытворяют электронные часы — не поддается описанию! — Сокол поставил много хохочущих смайликов, и я понял, что с электронными часами у него связана какая-то своя, особая история…
— Если ты убедился, что находишься в О.С. — главное, не волнуйся! Потому что можешь быть мгновенно выброшен в суровую реальность. Успокойся. Попробуй изменить цвет неба… Соверши свой первый затяжной прыжок. Не бойся. Даже если ты летишь вниз с горы и вот-вот разобьешься, просто представь себя резиновым шариком. Ты ударяешься о землю и легко отталкиваешься. Взлетаешь до облаков… Погляди — у тебя крылья! Лети вперед, навстречу своей новой жизни.
Поэтому я — Сокол, — закончил скромно мой наставник. — Потому что, когда первый раз я полетел, я представил себя птицей, вольной и свободной.
А, и еще — важно. Записывай, дружище, свои сновидения! Заведи специальный дневник. Зарисовывай план местности, где ты находишься. Часто наше подсознание приводит нас в одни и те же места. Тебе будет проще ориентироваться в твоем собственном мире. Ведь, когда мы просыпаемся, мы почти ничего не помним, — увы. Ну, может, ощущение полета? Так что записывай и учись запоминать. Теперь это твой мир.
Так я стал записывать свои сны.
ОСОЗНАНКА ПЕРВАЯ
Трава
Проснулся по будильнику в 6.00. Как говорил Сокол, умылся, открыл широко окно. К утру становится попрохладнее, днем жара невыносимая. Перед тем как снова заснуть, представлял Эльку на мотоцикле. Ко-гда проснулся, посмотрел, как учит Кастанеда, на свои руки, ничего особенного, потом хотел встать, но оказалось, что я не в своей комнате. Мой белый кожаный диван стоит на обочине пыльной сельской дороги. Я попробовал языком коснуться нёба и не почувствовал языка. Я понял, что нахожусь в О.С. Опустил ноги с дивана, там вместо ворса ковра, который обычно ощущаю, оказалась трава в росе. Трава яркая, изумрудная. Я вспомнил, что могу переключать краски. Попробовал переключить, хотел сделать траву розовой. Вместо этого вдруг все стало серым, потом бесцветным, стало бледнеть, растворяться. Сердце заколотилось, страшно заболела голова, и я открыл глаза. В лицо бил солнечный свет, за окном начинался обычный рабочий день. Во рту пересохло. Я смог оказаться в том мире, откуда приходила ко мне Элька. Это значит, что когда-нибудь мы еще встретимся.
Помимо записи сна я решил сделать рисунок, как советовал Сокол. Поскольку никакой географии во сне не было, я просто нарисовал открытое окно, мой белый диван и траву изумрудного цвета.
Рисунок перед вами.

* * *
— Котик! Как ты? Я скучаю! — Нежный голос, ласковый и тихий. Это Маруся. Моя невеста.
Как рассказать про Марусю? Ну, представьте себе нежно-розовую блондинку с локонами. Такая хорошенькая Барби. Чистое-чистое лицо, без капли косметики. Разве что может блеском для губ чуть-чуть мазнуть. Ясные голубые глаза. Да, вот, пожалуй, подходящее слово. Она — ясная.
В школе была отличница, но не из тех, кто ослепляет талантами. Маруся просто очень усидчивая, правильная. Почерк круглый, ровный. К тому же Маруся из обеспеченной и хорошей семьи.
Я обожаю Марусю. Но, если она исчезнет вдруг из моей жизни, я не умру. Хотя — если бы мне сказали: отдай жизнь за Марусю! — я без раздумий отдам. Такой вот парадокс.
Кстати, он встречается значительно чаще, чем можно предположить.
Мы познакомились с Марусей полгода назад. Она пришла ко мне на прием — показывать свои зубки. Ведь я — стоматолог. Ортодонт. Мои друзья зовут меня «Севка — Клык».
Элька называла меня «Всеволодька».
Так вот, Маруся пришла ко мне с мамой. У правильной Маруси образовался недостаток: полезли зубы мудрости, и ровные, белые зубки чуть-чуть покривились. Непорядок! Маруся была почти в истерике, потому что у нее все должно было быть правильно. Идеально…
Я должен был поправить ей улыбку. Довести до совершенства. Ну, и довел. Долго ли — умеючи?
«Умеючи — долго!» — всегда отвечала двусмысленно Элька.
* * *
ОСОЗНАНКА ВТОРАЯ
Бузина и попугаи
Не буду описывать процесс погружения. Он всегда одинаков: будильник на шесть утра, холодная вода, дыхательные упражнения. Снова та же дорога. В этот раз смотрел на свои руки. Не мог сосчитать, сколько на них пальцев, — ура, получилось. Побоялся переключать цвет травы, потому что меня снова может выбросить из О.С. Пошел по дороге прямо. По краям кусты бузины. Ягоды голубые, красные, белые. Их клюют попугаи. Я хочу схватить попугая, он уворачивается, взлетает, и я тянусь за ним и лечу над кустами. Что со мной? Мои ноги не двигаются, и руки тоже, я не лечу, как Супермен или как птица, просто я поднялся вверх и завис. Это страшно, я же сейчас сорвусь, чертов попугай, все из-за него. Падаю плашмя прямо в кусты, лечу сквозь них, ломаются с хрустом ветки, а может быть, мои кости, кажется, я громко кричу, но ничего не слышно. Удар о землю. Просыпаюсь.

Бузину и попугаев я тут же попытался зарисовать. Посмотрите рисунок.
* * *
Наверное, надо рассказать, как я стал стоматологом. «Зубной феей» — как говорит мой друг Поппинс.
И я, и Поппинс — из славного города Торжок. Городок маленький и красивый, но совершенно маргинальный. Был он таким не всегда. Когда-то лежал на перепутье торговых путей и был богатым. В Торжке строились монастыри и церкви. Останавливался Пушкин — ел пожарские котлеты, о чем оставил бод-рое стихотворение: «…у Пожарского в Торжке… Жареных котлет отведай — и отправься налегке!»
С тех самых пор Торжок еще и пушкинское место. Вот иногда так задумаешься: ай да Пушкин, ай да сукин сын! Скольких людей на Руси обеспечил он работой. Экскурсоводы и пушкиноведы, писатели и учителя, музейные работники и художники-оформители. Книгоиздатели. Редакторы… Молодец, Пушкин. Только за это все мы должны его любить и почитать.
Под Торжком, в деревне Прутня, — могила Анны Керн, той самой, которой посвящено «Я помню чудное мгновенье…». Вот и торжокцы. Сейчас от всей былой славы и осталось только — фабрика золото-швей да Пушкин. И называют Торжок проклятым городом. Говорят — если попадешь сюда, то тридцать лет будешь жить.
И даже такое придумали: многочисленные церкви, построенные в Торжке, оттого, что люди, «завязшие» в городке, хотели отсюда вырваться. Скостить срок, так сказать. Вот и пытались отмолиться, откупиться. Из Торжка свалить.
Свалить удавалось на зону. То есть уйти в несознанку. Криминальные бригады рождались, как поганки после дождя. То ли климат тогда такой был в нашем городе — затхлый и сырой, то ли безвременье и беспутье толкали молодежь в банды. Позже 90-е годы назовут «ревущими». Заточки в подворотнях, драки на рынках, контрольные выстрелы в голову… Пушкинский тихий городок превращался в сплошную разборку. Так тогда называли кровавые споры между группировками.
Разве не предчувствием были мои детские стихи? «На лодке одиночества уплыл я навсегда…»
Правда, в восьмидесятые годы, о которых я хочу рассказать, Торжок еще не был мрачным и криминальным, а, напротив, зеленым и радостным. Высокие липы и дубы, и наша средняя школа номер пять — бывший помещичий двухэтажный дом. В классных комнатах кое-где на потолках даже лепнина. В саду, перед школой, яблони и вишни; в мае — буйно цветущая сирень. И белая, и лиловая. Учителя вдумчивые, мудрые. Сейчас школьники все больше склонны к учителям относиться скептически; а у нас было не так.
У нас, во-первых, директор был настоящий крутой мужик, Андрей Терентьич. Мы звали его попросту Терентьич. Терентьич устраивал весной и осенью по пятницам, после уроков, совместные спевки: все ученики выходили на улицу после уроков. Рассаживались прямо на траве. Терентьич — на деревянной скамеечке. Доставал баян и играл. А мы все — хором пели. Не только романсы или там блатняк. И современные песни тоже. Даже репертуар из «Ласкового мая» присутствовал.
К Терентьичу можно было по-простому зайти и посоветоваться о своем, пацанячьем. К нему я и завалился в восьмом классе вместе с Поппинсом. Чтобы обсудить — что дальше? Куда идти. Надо было определяться. Делать выбор будущего.
Я хотел в художники. Поппинс — в актеры. Но Терентьич посмеялся над нами. Сказал: надо работу выбирать стабильную! Чтобы — на всю жизнь быть обеспеченным. А художник, писатель, актер — когда заработает?! Когда станет знаменитым. Надо — кусок хлеба.
А какой именно кусок хлеба? Ну, например, медицина. Или — автослесарное дело. Бухгалтерия. Ну, это скорее для девчонок. Короче, мужики, думайте.
И, конечно, надо ехать в Москву. Как у Чехова: «В Москву! В Москву!»
Ну, про Москву мы с Поппинсом и сами знали. Не дураки. Вся перспектива в Москве.
С шестого класса мечтали вырваться из пушкинского городка Торжок. Потому что в шестом классе случились события судьбоносные. Наш класс вывезли впервые на экскурсию в Москву. И Поппинс стал Поппинсом.
До этого он звался Женькой Дмитроченко. Моим лучшим дружком, с которым мы с первого класса — за одной партой. Плечом к плечу, как говорится.
На ноябрьские каникулы пришла наша классная Марта Сергеевна и спросила: кто хочет поехать в Москву? На экскурсию и в театр! На спектакль «Мэри Поппинс». Мы все хором заорали: «Я!!» Все хотели в Москву, все хотели в театр.
Нас было в классе пятнадцать. А билетов — только семь. Поэтому решили поощрить тех, кто хорошо учится. Мне поэтому сразу дали билет: я был почти отличник. А Женька, увы, учился плохо. Хотя и был шустрым и деловым. Но безалаберным. «Умная у тебя голова, Женька. Жалко, дураку досталась» — говорила Женькина бабушка. И была, безусловно, права.
Поэтому Женьке Москва на осенние каникулы не светила. И он ужасно расстроился. Просто до невозможности. Каждый день, на протяжении недели, подходил он после уроков к Марте Сергеевне и ныл: «Мартасергевна, ну я же тоже хочу на «Поппинс»… Мартасергевна! «Поппинс»!»
Вымотал ей всю душу.
В итоге одна девчонка, Танька Кузовлева, счастливая обладательница билета в театр, заболела перед самыми каникулами ангиной и в Москву не поехала.
А свой билет отдала Женьке. Сказала:
— Возьми, «Поппинс».
Так Женька обрел прозвище на всю оставшуюся жизнь.
А каникулы удались! Москва нас перепахала. Это была удивительная поездка. Хоть погода была хмурая, дождливая. Все равно — Москва впечатлила. Огромные дома, подземные дворцы метрополитена, пестрые толпы народа… Красная площадь с волшебным узорочьем куполов Василия Блаженного. Спящий вечным сном Ильич в мавзолее. Мороженка в вазочках в кафе «Лакомка». Женька потом заболел театром. Хотя спектакль «Мэри Поппинс», откровенно говоря, был слабоватым…
По дороге домой мы с Женькой, уже переименованным в Поппинса, договорились: после школы — только в Москву!
А к восьмому классу, после разговора с Терентьичем, решили выбирать себе жизненный путь.
И тут меня повело, скажу так, Провидение.
Сначала Провидение выглядело как несчастье. Дело в том, что был я парнем симпатичным. А вот зубки подкачали. Один верхний клык не уместился: торчал, как вампирский. Поэтому и прозвище мне дали: Клык. Севка Клык. Я вступил в тот возраст, когда ужасно хотелось нравиться девочкам. Поппинс уже имел постоянную подружку — ту самую Таньку Кузовлеву, которая когда-то пожертвовала ему свою московскую поездку. У Таньки буйно бугрились груди. Танька бутонизировала… — как однажды сказала про нее Марта Сергеевна, задумчиво глядя в окно на цветущую рядом со школой сирень. Танька надевала втихаря сестринские туфли на толстых каблуках и мазала губы яркой помадой. Поппинс с Танькой вечерами подолгу сидели на скамейке и хихикали. В Торжке говорили: «Они гуляют».
Мне гулять было не с кем, хотя я и писал в стол нелепые стихи о любви и рисовал профиль тургеневской девушки.
В амурных делах мне мешал проклятый клык. Сейчас-то я понимаю, что и горбун, и лопоухий, и отъявленный жирдяй может быть достойным любви и даже слыть плейбоем. Главное, уметь себя преподнести. Но тогда я этого не понимал. Думал: всему виной не на месте вылезший зуб…
О своих страданиях я поведал зубной врачихе, имени которой память моя не сохранила.
Раз в год к нам в школу привозили перевозное стоматологическое кресло с полным набором пыточных инструментов: какими-то щипцами, сверлами и, главное, страшной бормашиной. Как мы боялись этих плановых осмотров! Главный мачо нашего класса, Шубин, даже падал в обморок, как кисейная барышня, перед дверью медицинского кабинета…
Сейчас в это трудно поверить, но было именно так. Зубной врач со своим инвентарем приезжал из Твери. И избежать осмотра было невозможно: с уроков нас под конвоем, по списку, по пять человек отправляли показывать зубы. Бедняга Шубин — он был в самом конце списка, поэтому «ожидание смерти», которое, как известно, хуже самой смерти, для него растягивалось на целых шесть уроков.
Мне, можно сказать, повезло. Кариеса у меня толстая уверенная врачиха в маленькой белой шапочке на макушке не увидела. Слезая со стоматологического кресла, не чуя под собой ног от счастья, я решил, на радостях, поддержать с ней разговор. И сказал:
— А вот у меня зуб какой-то вырос… Не на месте. Что можно сделать?
Врачиха оторвалась от заполнения карты. Волевым движением вернула меня в кресло и придирчиво осмотрела зубы по новой. Потом сказала:
— Ну, пластинку ставить поздновато… Давай-ка удалю!
Я заблеял: не надо, может, как-то сам встанет на место…
Моя воля была парализована этой громадной женщиной с мощными, накачанными руками. Даже сейчас я помню, что руки эти были покрыты маленькими рыжими волосками…
— Потом еще спасибо скажешь! — строго сказала она. И добавила: — Не будь тютей!
Взяла огромные клещи. Я зажмурился…
Может быть, я даже упал в обморок, как мачо Шубин. Очнулся от того, что зуб бряцнул о металлическую тарелочку.
Врачиха ловко вставила мне в рот ватку.
— Все! Улыбка будет голливудская! Иди, засранец.
Я слез с кресла и на дрожащих ногах вышел за дверь.
Без вампирского клыка.
Улыбка получилась немножко асимметричной, но это только для тех, кто понимает. А так — ровные зубы. И никакой брекет-системы, о которой тогда не подозревали не только в городе Торжок, но и в самой Москве.
Через неделю я уже широко улыбался девушкам и даже осмеливался приглашать их на медляки — медленные танцы.
Это сейчас записные ухажеры говорят: «Нет времени на медленные танцы!» А тогда «медляки» были в моде. И белые танцы — тоже. Белый танец — когда дамы приглашают кавалеров.
Да что там говорить! Я стал другим человеком. Уверенным в себе настолько, что понял: хороший стоматолог может избавить от кучи комплексов.
И я, памятуя совет Терентьича, решил стать стоматологом.
* * *
Решил сегодня изменить методику, потому что Эльку пока все еще не встретил, все больше попугаи и бузина. После того как умылся и сделал дыхательные упражнения, представлял нашу первую встречу с Элькой.
Я вспоминал, как впервые увидел ее.
Это произошло на мой день рождения. Тридцать лет, первый настоящий взрослый юбилей.
Поппинс вывел всю нашу компанию в ресторан.
«Отмечать будем как взрослые мальчики», — так сказал Поппинс.
Он оказался парнем не промах. Предприимчивым. Актером, конечно, не стал. Но обнаружил в себе ту самую жилку, которая оказалась важнее актерства. Важнее фундаментальных наук.
Поппинс сказал: «Смелость города берет».
Он придумал важную вещь. Люди могут перестать покупать вещи. К книгам интерес может упасть до отрицательных значений (в этом Поппинс, кстати, оказался провидцем). И кино, как важнейшее из искусств, может почить в бозе.
Но люди не перестанут есть и не перестанут болеть. Никогда.
У Поппинса было еще интересное высказывание, что люди не перестанут дышать, и это их свойство вообще обещало колоссальные проценты — из продажи чистого воздуха. Но мы, увы, так и не придумали, как научиться продавать воздух…
Свою теорию Поппинс подкрепил практикой. Организовал, взяв на свой страх и риск кредит, крошечный стоматологический кабинет. Где всего-то было два кресла. Я — ортодонт, и Левка Виснадул — терапевт. Левка учился со мной в стоматологической академии. Очкарик, похожий на Знайку. Маленький, плотненький, очень сосредоточенный. Хороший парень! Ему так шла медицинская шапочка.
На себя Поппинс взял организацию процесса. В приемную, на телефон, посадил Таньку Кузовлеву: к тому времени она уже пять лет была его законной супругой.
Короче, поставил дело на поток.
Поппинс проявил немалый креатив, сказав, что стоматологий вокруг масса. Но нет таких, чтобы для народа… Народность, само собой разумеется, заключалась в низких ценах.
— Чтобы, понимаешь, каждая самая простая бабулька могла пойти и со своей пенсии залечить зуб! — витийствовал Поппинс.
Так ведь у бабульки уже и зубов-то нет, возражали ему.
— Ну, значит, вставить зубы. А ее сынок-алкаш — мог бы залечить. А внучок-дебил — исправить прикус, — со значением смотрел на меня Поппинс.
Он умел убеждать, мой старинный и единственный друг Женька. И поэтому мы с Виснадулом два года работали практически только за еду. Но если Левка Виснадул был москвичом и жил с родителями, то мне приходилось снимать квартиру. А поскольку денег катастрофически не хватало, жили мы все вместе. Поппинс с Танькой в комнате, я — на раскладушке на кухне.
Экономили на чем могли. Ели китайскую лапшу — Поппинс называл ее «бомж-пакет». Из культурных мероприятий были только пешие прогулки по городу. Но зато клиника «Народный зуб» (так решил креативный Поппинс назвать нашу стоматологию) постепенно обрастала своей клиентурой.
Потому что цены были на самом деле на порядок ниже, чем везде. А Танька-администратор улыбалась очень по-доброму. И обязательно предлагала клиенту чай-кофе-сахарок. Маркетинговый ход, но люди велись. И в следующий раз приходили опять к нам…
Я и Виснадул работали как проклятые. Не разгибая спины. Но — процесс пошел. И вот уже Поппинс заплатил нам первую достойную зарплату. Мы переехали в новый офис, пахнущий краской после свежего ремонта. На столике в холле стояла белая орхидея. Это был шик…
Я снял отдельную квартиру и наслаждался одиночеством.
Через год рискнул и взял в ипотеку новостройку в Жулебино. Поппинс, кстати, уже был обладателем отдельной «двушки». Глубоко беременная Татьяна обставила ее по последнему слову дизайнерской мысли: на потолке зеркальные плитки, в ванной галогенные светильники.
Поппинс пересел на маленький желтый «Опель» и целыми днями носился по Москве. Он задумал превратить «Народный зуб» в сеть клиник.
Жизнь была полна радужных надежд и реальных перспектив.
На этой позитивной ноте мы и отмечали мое тридцатилетие в клубе «Нирвана» на проспекте Мира. Говорили много тостов: и про меня, и про коммерческую жилку Поппинса, и про Поппинса-младшего, которому исполнился год… Про «Народный зуб» тоже, конечно, говорили с пафосом.
Нализались.
Левка Виснадул уполз в туалет. Его тошнило. Танька бросала на Поппинса яростные взгляды. Дома ждал Поппинс-младший, которого оставили с няней. Материнское сердце рвалось к нему, но женская чуйка останавливала. Поппинса-Женьку в таком состоянии нельзя было оставлять без присмотра.
Потому что глаз у него загорался нездоровым огнем. Поппинс любил женщин, любил производить впечатление. Распушать перья. И его ярко-голубой, какой-то даже сапфирный, парадный пиджак, вкупе с золотистым галстуком, был своего рода павлиний хвост, на который он подсознательно приманивал женские взгляды.
Здоровое тверское начало было в Поппинсе. И Танька об этом знала. Танька, к слову, сильно поправилась после рождения Поппинса-младшего и стала, скажем так, бабёшкой, что само по себе неплохо и естественно. Но Поппинс как-то загрустил. Он хотел видеть рядом с собой молодую и длинноногую. Стильную. Танька, конечно, стильной не была… Но хватки не теряла. Поэтому-то и сидела с нами за столом. Караулила…
Между горячим и десертом (Виснадул уже отбыл в сортир, где звал Ихтиандра, по меткому выражению остряка Поппинса) на маленькой сцене по-явился оркестр. Не очень молодые музыканты, с печатью оппозиционности на помятых лицах, играли знакомые мелодии. Только музыка. Без пения. Это было стильно.
Поэтому, когда вдруг в музыку вплелся женский голос, гул в зале стих. Все повернули головы. И я тоже. Поппинс присвистнул. Возле музыкантов нарисовалась молодая женщина. И без того высокая и худая, из-за каблуков она казалась просто бесконечной… Вернее, ноги ее. В ярко-красных колготках. Свитер еле-еле прикрывал бедра. Рыжая, лохматая, с хрипловатым голосом. Необычен был и восточный разрез глаз. Высокие скулы выдавали то ли иностранку, то ли инопланетянку. На тонких пальцах сверкали массивные перстни.
Я прожил жизнь в трущобах городских,
И добрых слов я не слыхал.
Когда ласкали вы детей своих,
Я есть просил, я умирал…
Совершенно нетипичный для девочки репертуар. К тому же рыжая сильно фальшивила. Эксперименту гостьи из зала в стиле караоке музыканты послушно подыграли. А она была будто девушка в столбе света. Я не мог отвести от певицы взгляда… Просто не мог.
Она закончила песню, закрыла лицо руками и зарыдала. Худенькие плечи вздрагивали.
К ней подошел толстый, солидный дяденька — по виду, бизнесмен. Сунул музыкантам денежку. Увел рыжую за свой столик, бережно, как ребенка.
— Нажралась как собака, — процедила сквозь зубы Танька.
Действительно — как же я не понял — рыжая просто в хлам пьяная. Не меньше нашего Виснадула.
Так я впервые увидел Эльку.
* * *
Интересный переход от бодрствования к сну. Мне хочется рассказать об этом. Мой мозг это стакан чая. Крепкого и горячего чая «Эрл Грей» — я пью только такой. Стакан прозрачный, и я весь сейчас олицетворяю красно-коричневый горячий божественный напиток. Мысленно я выжимаю лимон в этот чай. И он моментально светлеет. Становится золотистым. Сыплю две ложки сахара. Размешиваю маленькой серебряной ложечкой — такая ложечка осталась в Торжке, в доме моих родителей. Я весь — этот крепкий чай. В нем вихрем кружатся сахарные песчинки. И растворяются без остатка.
Аurum potabile. Питьевое золото.
Я же хорошо знаю химию и всегда интересовался самыми необычными химическими явлениями. Вот и аурум потабиле. Когда-то алхимики бились над созданием этого божественного напитка. Считали, что питьевое золото панацея от всех болезней и даже от такого печального явления, как старость. Да и я хотел создать… В старших классах. Когда засыпаю, я думаю, что выпил этот волшебный аурум. Растворяются последние сахарные крошки. И глаза слипаются от сладости — не открыть.
ОСОЗНАНКА ТРЕТЬЯ
Орхидея
Я снова в том ресторанчике на проспекте Мира. Я снова вижу поющую Эльку — лохматую, прелестную. До мельчайших подробностей вижу. И она смотрит прямо на меня, не отрываясь. Она поет мне! Теперь я знаю это точно.
После своей песни Элька не плачет, пряча по-детски лицо в ладошки.
Она подходит к нашему столику и берет меня за руку. Она куда-то меня зовет, и я послушно поднимаюсь и иду вслед за ней. Вроде бы там, за бархатными занавесочками, туалет — там скрылся Виснадул. Но так было в реальности. А во сне все по-другому. Там — моя, уже знакомая, дорога, окруженная кустами бузины. Мокрая трава и коварные попугаи. Я оборачиваюсь на попугая и хочу рассказать Эльке, как в прошлый раз охотился за ним. Но Элька прикладывает палец к губам: «Тссс!» Похоже, она знает, куда идти. Прямо в дупло толстого дерева, похожего на дуб. Я не успеваю удивиться, как же мы туда поместимся, как вдруг вижу, что из дупла ход ведет в коридор… Много-много комнат, как в отеле. Да это и есть отель! А у Эльки в руках ключ. Она подводит меня к двери под номером 63. Открывает дверь, — такие двери, из темно-красного дерева, бывают только в очень дорогих отелях…
Мы заходим внутрь. Посередине, в номере, огромная кровать. На кровати лежит зеленое яблоко, ковер белый, пушистый. На стеклянном столике лиловая орхидея. Я вижу, что орхидея с детским веселым личиком, с глазками. Глазки подмигивают мне. Орхидея-то живая! Как в сказке про Алису. Но не это самое удивительное. Ветер раздувает занавески, тоненькие, газовые. И я ощущаю морской бриз. Да, за занавесками — море! Мы выходим на балкон. Держимся за руки. Элька смеется.
— Видишь — море! Скоро пойдем плавать с тобой. Главное — не обгореть. Сейчас очень сильное солнце.
Элька берет меня за лицо двумя руками. Нежные, узкие ладошки…
— Как я скучаю по тебе! — говорю я.
Элька смеется.
— Тише! — снова прикладывает она палец к губам.
Я понимаю: ага, орхидея в комнате! Не только подглядывает, но еще и подслушивает. Элька обнимает меня, и ее волосы попадают мне в глаза, в нос, в рот. Мне нечем дышать…
Я просыпаюсь один в своей комнате. Подушка снова мокрая от слез.

* * *
— Ты не должен бояться снов. Главная ошибка новичка — он боится быть самим собой. Боится умереть. Пойми, умереть в сновидении — невозможно! Можно только проснуться, — рассказывает мне Сокол.
— Почему многих людей преследуют одинаковые кошмары? Откуда это берется? Например, каждый видел сон про то, как не можешь сдать экзамены. Сон, как за тобой кто-то гонится, а ты не можешь сдвинуться с места. И в осознанных сновидениях есть какие-то магические сюжеты. Например, лифты. Лифт живет в осознанном сновидении своей собственной жизнью — вылетает из шахты вверх. Прямо в открытый космос. Лифт может ехать не только вверх-вниз, но и вправо-влево… Это что-то значит или просто совпадение?
— Можно ответить на этот вопрос только самому…
* * *
Может быть, кому-то кажется странной и даже неприятной профессия зубного врача. «Дантист от радости готов забыть о гадости ротов». Так любит говорить остряк Поппинс, несмотря на то, что на «гадостных ротах» он делает свой прибыльный бизнес.
А мне стоматология кажется не только полезной и важной. Искусство врачевания зубов — вдумайтесь в это словосочетание. Искусство! Каждый человек индивидуален. И зубы у него тоже уникальные. Можно изменить жизнь с помощью красивой улыбки. Как изменила лично мою жизнь суровая врачиха из передвижного кабинета. А казалось — просто выдрала некрасиво торчащий клык. Я не говорю уже про страшные зубные боли, которые могут довести до исступления. В Средние века считалось, что в больном зубе поселялся злобный червь, который точит корни и не дает жить спокойно и радостно. Дантист прижигал зуб каленым железом, лил ядовитую смесь… Понятно, что это не помогало. Как были бы рады и счастливы средневековые люди, если бы им на службу пришли современные технологии! А обезболивание, о котором даже мои ровесники в школьные годы чудесные могли только мечтать! А восстанавливающие пломбы, волшебные виниры, которые способны превратить зубки-гнилушки в голливудскую улыбку!
Есть, конечно, момент эстетики. Не больно приятно копаться во рту у старика, когда зубы у него черные и больные, а половина вообще отсутствует. По-хорошему, зубы должны были бы отрастать, к сорока годам, новые! Так же, как меняются они с молочных на взрослые. На «сливочные», как шутили мы в детстве. А если не чистить на ночь, то будет «пломбир». Шутка с бородой, знаю. Но мне лично до сих пор кажется искрометной.
Так вот. Чтобы избежать ковыряния в зубах старцев, я выбрал себе специализацию ортодонтия. То есть дело имею исключительно с отпрысками обеспеченных родителей, которые хотят, чтобы детка улыбалась, как на рекламе известного шоколада. Зубы один к одному. Такое бывает редко. Поэтому и нужны мои услуги.
Начинается с того, что я прошу сделать рентгеновский снимок. Потом вместе с родителем (как правило, это сильно волнующаяся мама) смотрим снимок. Я ей показываю: вот, как солдаты в строю, стоят зубы. Корни. В глубине притаились зубы мудрости: они еще скажут свое веское слово ближе к двадцати годам…
Предлагаю ставить брекеты. Сейчас дети брекетов не стесняются. Наоборот: гордятся. Брекеты знак того, что они заботятся о своем будущем, конечно, блистательном. Здоровые волосы, ногти, зубы — это пропуск в мир успешных людей.
Это понимают современные дети. Поэтому сидят у меня в кабинете, торжественные и гордые. Брекет-система недешева. Еще дороже время, которое будет потрачено на поездки ко мне, на замены дуг и подклейку брекетов, которые, вот заразы, так любят отваливаться…
Но все сложности преодолимы. В глазах матерей — самоотверженная любовь. Да, они будут ездить со своими чадами. Потому что всё готовы положить на алтарь будущего успеха.
Вот, например, Джулия Робертс. Ее большой, какой-то даже лягушачий рот и кривые зубы были явным признаком того, что она вырастет дурнушкой. Но — попался на ее пути толковый ортодонт, который так же менял дуги и подклеивал брекеты, и Джулия стала «Красоткой» и снялась с Ричардом Гиром, и обрела личное счастье, и заработала большие миллионы.
Кто знает, что было бы с ней сейчас, если бы не тот безымянный врач?!
К чему пассаж о Робертс и о тонкостях моей работы… Я хочу показать, что мне интересно то, чем я занимаюсь.
Чего бы ни говорили злопыхатели вроде Поппинса.
К тому же стоматология приносит неплохой и, главное, стабильный доход.
Потому что зубы к сорока годам не обновляются. По крайней мере, естественным путем. Значит — мы, стоматологи, всегда будем иметь свой кусок хлеба. Вероятно, даже с маслом.
* * *
Маруся мой ангел. Она зовет меня «котик», а я ее — «зайка». Такой вот зверинец. Но это очень мило, очень мимими, как говорит Маруся. Она любит розовый цвет и блестки, хотя и знает по модным журналам, что стилисты не одобряют подобные увлечения.
Маруся часто плачет и много болеет. У нее может заболеть ушко, или животик, или там пальчик. Тогда она ложится под одеяло и страдает.
Мне неприятно видеть, как страдает ангел. Я же не зверь. Я ее утешаю, приношу ей сладкий чай или подогретое молоко. Я сажусь рядом и глажу ее по -голове.
Маруся жалобно вздыхает и говорит:
— Котик, мне так жаль, что я совсем расклеилась… Я буду сильной для тебя. Я поправлюсь.
Как будто у нее неизлечимое заболевание. Циничный медик во мне кричит: гони ее пинками в тренажерный зал! Как бабы в поле рожали? Как терпели партизанки на допросе? Как, в конце концов, моя тетя Шура, простая деревенская женщина, со сломанной ногой готовила похороны своей сестры, моей другой тети — Тамары? Нормально, да? И только потом, когда уже все разошлись, попросила меня отвезти ее в больничку. А перелом, между прочим, оказался открытым…
А тут — ванильные сопли. Расклеилась она…
Но я смотрю в чистые голубые глаза и понимаю, что я черствая скотина. Я подтыкаю Марусе одеяло под бок и говорю:
— Поспи, зайка. И все пройдет. Сон лечит.
* * *
Я встречаюсь с Марусей. Я люблю Марусю. Но все время вспоминаю про Эльку. Почему мне так дороги эти воспоминания? Я перебираю их, как скупец перекладывает свои сокровища и любуется ими. Может быть, я предаю Марусю, когда думаю об Эльке? Но Маруся никогда не узнает об этом. И я снова, мучаясь стыдом, вспоминаю. Прости меня, моя малышка.
…Тогда, в то памятное мое тридцатилетие, рыжую напившуюся красотку уводил домой ее папик. Так мне хотелось его называть, толстого пузатого богача. Хотя по возрасту он не был, конечно, «возрастным». Лет сорок, не больше. Но — заметно, что статусный. Дорогие часы «Роллекс», добротный костюм. Гладкое, ухоженное лицо.
Я видел, как он приобнял свою рыжуху за плечики (бочка и спичка, мстительно подумал я). Как осторожно вывел ее на улицу. Через стекло витрины я видел, как из черной припаркованной Бэхи угодливо выбежал водитель и распахнул дверь. Толстяк погрузил туда девушку, потом обошел машину, сел рядом с водителем. Тронулись.
А я вдруг заметил, что девушка оставила су-мочку — маленькую, блестящую. Золотую всю ка-кую-то…
Золото по-латыни «аурум».
Я встал из-за стола, поднял сумочку. Так и ждал, что подбежит официант. Тогда надо будет отдать ему сумочку-аурум, объяснять, зачем я ее схватил… Зачем, кстати, я и сам не знаю. Скорее всего, просто это было вещественное доказательство того, что рыжая была здесь, что в спертом ресторанном воздухе еще витало ее дыхание, ее духи. Кажется, мимоза.
Но никто не заметил, как я поднял сумочку.
Я открыл ее: легкий щелчок. Пудреница, расчес-ка, пачка гондонов. Открытая. Маленький кошелечек. В кошелечке — пять тысяч рублей, кредитная карточка на имя Элеоноры Хакасима. В свободном полете по всей сумке рассыпаны визитки. Самые разные. И скидочные карточки. Среди всей этой пестрой роскоши я нашел визитку с контактами Элеоноры Хакасима. Дизайнер, художница.
Рыжая — но с японской фамилией? Но зато теперь я знал, как ее найти.
* * *
Поппинс загрустил.
Семейная жизнь дала трещину.
Он подолгу сидел в нашей клинике после работы — в своем директорском кабинете. Раскладывал на экране пасьянс. Говорил загадками, в которых сквозило тоскливое настроение.
— Знаешь ли ты, мой бледнолицый брат, что обозначает японский термин «кеньятайму»? — спросил он.
Я, конечно, не знал. Левка Виснадул тоже не знал.
— Сугубо мужской термин… «Кеньятайму» определяется как очень непродолжительный интервал в жизни мужчины, когда сразу после близости с женщиной его мысли не искажает половое влечение. Японцы говорят — только в этот период мужчина и может думать как настоящий мудрец. Незамутненно.
Виснадул спросил:
— И что? У тебя кенья… Как там дальше? Ничего страшного. У меня вот всегда это самое слово.
И правда — Виснадул в порочащих связях с женщинами замечен не был. Он жил с родителями, а интересовался только работой. Его сознание было незамутненно и неискаженно.
— Наоборот, — вздохнул Поппинс. — У меня кень-ятайму отсутствует. Я все время хочу бабу. Даже нет, не так… Хочу любви. Хочу молодую девчонку. Бежать на свидания. Волноваться. Дарить цветы.
— А с Танькой проблемы, что ли? — спросил я.
— Не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой, — ответил Поппинс известной шуткой. — Тебе меня не понять. Завел себе молодую козочку. И чувствуешь себя молодым. А я как пенсия с Танькой… Не воспринимаю ее как женщину. Не знаю, что делать.
— Это у тебя гости в ребро пришли, — сказал Виснадул. — Опасная, однако, тенденция…
Левка имел в виду пословицу «Седина в бороду — бес в ребро».
* * *
Вечером мы договорились с Марусей встретиться около памятника Пушкину. Есть ли в Москве место романтичней?! Я пришел с букетом белых роз. Она выпорхнула из метро — юная, свежая, хорошенькая. По-детски обрадовалась цветам. Они так шли к ее светло-бежевому пальто… Была поздняя весна, и на ногах у Маруси вместо сапог красовались милые туфельки на каблучках. Я чувствовал, как на нас все смотрят, и знал, что мы заслуживаем восхищения. Высокий мужчина с темными волосами, в синих джинсах и белых высоких кроссовках — сникерах. Я выгляжу очень моложаво. Но во мне есть определенный шик — так говорила Элька.
Поппинс, к слову, пузат и уже полысел. Возле крутого лба образовались заметные залысины, и даже седина имеется. «Результат раннего супружества», — поясняет Поппинс. И с укором смотрит на Таньку. И к тому же я избавился, надеюсь, от налета торжковской провинциальности. Короче, я молод и крепок, я готов к долгим ночным прогулкам, к посиделкам в кафешках, к танцам до упаду… Мне так подходит Маруся, хрупкая и нежная. Интеллигентная. С легким румянцем, с чистым, как будто промытым личиком. Она незаметно целует розы. Любимая моя.
Мы идем, взявшись за руки, посидеть в ресторане «Венеция». Он находится во дворе, под аркой, возле самого метро «Чеховская». Здесь всегда шумно и многолюдно, и мы почти не слышим друг друга. Поэтому молчим… Нам так хорошо вдвоем. Маруся отзванивается маме — та всегда волнуется за дочь. А Маруся дочь послушная. Она делает селфи со мной: вытягивает губы уточкой, сноровисто ищет нужный ракурс… И вот в крохотный экранчик помещаюсь и я, и Маруся, и даже розы. Мы — щека к щеке. Селфи улетает к Марусиной маме, Маргарите Павловне. Теперь она может быть уверена: ее дочь — в надежных руках.
А потом мы долго гуляем по Страстному бульвару, на скамейках сидят такие же, как мы, влюбленные пары… Самозабвенно целуемся. Я чувствую, что сейчас совершенно далек от японского состояния мудреца «кеньятайму».
— Мне иногда кажется, что у меня в прошлой жизни были крылья — большие, прозрачные, синие. Я жалею, что сейчас их нет. Можно было бы полететь над ночной Москвой, как Маргарита, — говорит моя любимая.
— Маргарита вообще-то летала не на крыльях, а на метле, — замечаю я.
— Котик… ну не будь дантистом… А я бы полетела на крыльях. Ты знаешь — тут рядом Совет Федерации, там мой папахен работает. У них там большая-большая лестница, когда я прихожу к нему и поднимаюсь по ступенькам, мне кажется, что я — королева и живу во дворце.
— То есть твой дворец — это Совет Федерации? — смеюсь я.
— Ну да… Там еще знамена висят. Я думаю, что это ко мне приехали на прием заморские гости и привезли свои флаги.
— Зайка, какая ты у меня фантазерка! — мне хочется схватить ее на руки и кружить, кружить…
Мы уходим в какие-то переулки — народу почти нет, и я вдруг чувствую, что Маруся начинает нервничать. Она перестает шутить и фантазировать.
— Что случилось? — беспокоюсь я.
Она мнется, потом наконец признается: хочет найти здесь дамскую комнату… Хочет пи-пи… Моя маленькая. С небесных высот на грешную землю.
Конечно, здесь нет никаких дамских комнат и даже простого как правда синего сортира с химическим растворителем тоже нет. Я предлагаю простое решение: забежать в первую попавшуюся подворотню.
Маруся смотрит на меня с ужасом. Нет-нет, она так не может!
Тургеневская девушка, блин, которых я рисовал прыщавым подростком.
Мечемся по центру: Маруся бледна и грустна. Я зол.
Я думаю, что Элька, конечно, ни минуты не сомневаясь, присела бы прямо здесь. И до подворотни бы не побежала.
Потому что — естественное не безобразно.
Однажды Элька спросила меня:
— Ты знаешь, что японцы могут рыгнуть в обществе и даже шумно выпустить газы?
— Перднуть, что ли?
— Назовем это так, по-русски…
— Они что — такие бескультурные?
Элька засмеялась:
— В японские критерии красоты входят четыре принципа: саби, ваби, сибуй и югэн. «Саби» — дословно «ржавчина». Старина, налет времени, потертость, следы прикосновения многих рук. То есть естественная красота времени. Ваби — отсутствие нарочитого и фальшивого. Всё, что неестественно, — не может быть красивым. Оно просто вульгарно. Ваби в соединении с саби дало то, что японцы называют «сибуй» — красота материала при его минимальной обработке мастером. Сибуй — это первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. Ну, а югэн — недосказанность… Красота, которая лежит в глубине вещей.
— Ну, тогда ты — саби и югэн! Сто пудов…
— Почему?
— Потому что ты — рыжая, как ржавчина. И ничего о себе не говоришь. Ты вещь в себе…
Она прикрыла мои губы узкой ладошкой:
— Мне нравится, что в тебе почти не бывает фальши. Но иногда твоя простота хуже воровства…
…В итоге, после двадцатиминутных метаний мы с Марусей находим кафешку; забегаем туда, как бешеные бизоны. Маруся сразу бежит в дамскую комнату, при этом не забыв крикнуть бармену:
— Мне надо помыть руки!
Как будто бармену не все равно, зачем она бежит в сортир…
* * *
Я знаю, что из Маруси получится идеальная жена. Во-первых, мне она досталась девственницей. И я с Марусей ощущаю себя альфа-самцом. Альфачом, как принято сейчас говорить… Маруся слушает меня, Маруся влюблена в меня. Я с ней рядом кажусь себе серьезнее и значимее.
Во-вторых, Маруся — единственная дочка обес-печенных родителей. Она — мой билет в безбедное существование. Папа, имеющий отдельный кабинет в Совете Федерации. Большая квартира и загородный дом. Все это со счетов не скинешь. Маруся — выгодная партия. Заделать с ней парочку детишек. Такой вот «сибуй». Красота материала при минимальной обработки мастера. Прекрасная жена и мать. И зубы у детишек будут, стопудово, ровными. Я уж постараюсь.
С другой стороны, мне уже сейчас с ней скучно.
Я возвращаюсь домой, после свидания, опустошенный. Кеньятайму… Чертов Поппинс. Вечно что-нибудь эдакое расскажет.
Как мне не хватает Эльки! Она никогда не была скучной. Я ложусь в свою холостяцкую постель. Я хочу в свой мир сновидений — тот, куда я сбегаю к Эльке. Она живет там, я знаю. Носится на своем легком черном мотоцикле. Не надевает шлем, как часто бывало и в реальной жизни. Но там, в мире снов, подобные поездки совершенно безопасны. Там можно легко перелетать на мотоцикле с одной вершины горы на другую.
Для того чтобы погрузиться в сонный транс, надо создать в комнате абсолютную темноту. Я плотно задергиваю шторы. Ложусь на спину, руки складываю на груди.
Я стараюсь отдаться воспоминаниям. Они — мостик в яркое сновидение. Жизнь во сне произойдет только под утро — строго по теории Ла Бержа. Но пока я хочу настроиться. Просто вспоминать. Ведь это то немногое, что мне доступно.
Я вспоминаю, как принес Эльке забытую ею золотую сумочку. Она не удивилась моему звонку. Назвала адрес.
Как будто уже тогда знала, что я буду ей покорным слугой…
* * *
Элька жила в новом доме на Кутузовском проспекте. Очень высокий этаж. Здание из бетона и из стекла, — кажется, такой стиль называется «хайтек». На лестнице — вьющиеся растения и маленькие деревья в кадушках. Коврики. Пока я дошел до нужной двери, мои кроссовки стали совершенно чистыми и сухими.
Дверь распахнулась сразу после звонка. Моментально. Я даже вздрогнул от неожиданности.
Рыжая девушка, одетая в полупрозрачную тунику. Босая. На шее какое-то японское колье из ракушек.
Она равнодушно кивнула мне: проходи.
И пошла в комнату, не оглядываясь. Была уверена, что я иду за ней.
А я и шел.
Я, простой мальчик из Торжка, оказался в самой настоящей модной квартире-студии. Стен не было, лишь кухонная зона выделена подиумом. Тяжелые занавески раздвинуты, и из них — потрясающий вид на Кутузовский. Спешат машины, совсем маленькие с такой высоты.
Минимум вещей, это так несвойственно молодым женщинам. Только на абсолютно белой стене висел самурайский меч с ниспадающей черной лентой.
Потом я узнал: стены скрывали шкафы-купе, а уж они-то были набиты всякой всячиной. Обувь, сумки, шубки, платья… Элька была модной девушкой, богатой. Посередине комнаты стоял мольберт. На нем был изображен… ээээ… черный круг. Ну, всем известен «Черный квадрат» Малевича. В нем, говорят, сконцентрировалась вселенная. Хотя я полагаю — Малевич был просто гениальный жулик, иначе почему копий этого «Черного квадрата» так много! Так вот, на холсте был брат шедевра Малевича. Только в форме круга.
— Не круг, а шар, — поправила рыжая Элька.
Я знал, что ее зовут Элеонора, так и обратился к ней. Но она сказала: не Элеонора, а Элька. Потому что Элька похоже на «эльфа». И еще — на «эль». И засмеялась.
Я понял, что погиб.
Эльфы, эль и «Черный шар», в котором для меня теперь был весь мир.
— Будешь коньяк? — спросила Элька.
Достала бутылку дорогого «Мартеля» и налила в два широких бокала.
— Ну, за знакомство! И еще — за то, чтобы вещи всегда возвращались к своим хозяевам! — сказала она.
Я посмотрел на нее через бокал. Выпуклый стеклянный бок забавно исказил Элькино лицо: глаза стали огромными, как у японской «анимашки», а рот и шея слились воедино и потонули в коньячном нектаре.
Вспомнив ее фамилию, я впервые подумал, что в ее узком лице есть действительно японские черты. Рыжевато-золотая японка.
— Золотой напиток. Ты знаешь про питьевое золото? — спросил я, пытаясь произвести впечатление.
— Кажется, его пили древние, чтобы никогда не умирать? Но ведь они же все равно умерли! Освободили место нам, — засмеялась Элька.
Она легко чокнула своим бокалом о мой. И залпом выпила «Мартель».
Потом бросила:
— Я сейчас вернусь!
И исчезла где-то в районе прихожей. Зашумела вода… Я в волнении поперхнулся коньяком. «Закройщик из Торжка», — почему-то вспомнилось название известного ретро-кино. Я бываю строг к самому себе…
Подошел к стеклянному стеллажу. Там стояла целая коллекция мужских членов. Вид у них был, прямо скажем, дурацкий. Пара десятков эрегированных членов всех мастей и размеров — что бы вы об этом подумали? Вот и я преисполнился сомнений.
Но тут меня обхватили со спины нежные руки. Окутал запах мимозы. Я не слышал, как Элька вышла из душа…
— Я хочу отблагодарить тебя за честность и проявленное мужество, — прошептала она.
* * *
ОСОЗНАНКА ЧЕТВЕРТАЯ
Небо
Уже знакомая дорога, я пытаюсь дойти до того дерева, в дупле которого открылся коридор в отель. Мы там были с Элькой. Дерева нет, и дорога обрывается. Я подхожу к самому краю пропасти. Смотрю вниз, не удерживаю равновесие и падаю. Спокойно, говорю я себе, спокойно, главное не паниковать. Я взмахиваю руками и — ура, получилось — лечу как самолет! Правда, вовсе не плавно, а, стремительно набирая скорость, ухожу вверх. Небо синее-синее. В нем висят воздушные шары, как те, на которых совершались путешествия. К каждому такому шару приделана корзина, в ней люди. Шаров очень много, но они все далеко. Люди кажутся малюсенькими, но я вижу: все они смотрят на меня! Они аплодируют мне и что-то кричат. Я устремляюсь к ним, но шары вдруг сдувает налетевший ветер, и вот их нет. Я снова один парю в синем-синем небе. Такое небо бывает в сентябрьское бабье лето. А вот и паутинки, они всегда летят в сентябре. Я вдруг понимаю, что я такой же крошечный паучок, и я лечу вовсе не размахивая руками, а потому, что у меня своя паутинка. Я ее не вижу — она за спиной, торчит из лопаток — но я вижу, что рук у меня то ли шесть, то ли восемь… Я смеюсь и смотрю на солнце. Оно не ослепляет. Мы все — паутинки — летим по направлению к солнцу. Сейчас я попробую переключить синий небесный цвет. Аааааааа. Опять все гаснет. Утро. Жулебино. Пора на работу…

* * *
С Поппинсом нас связывает самая настоящая мужская дружба. Во-первых, нас объединяют общие воспоминания и детство — считай, общая жизнь… Во-вторых, работа. Я рад и счастлив, что в моей жизни есть Женька Поппинс. Он как моя рука, как нога, которая всегда рядом и даже не ощущается — такая моя.
С ним достаточно одного не просто намека. Полунамека. И сразу понятно, о чем речь.
Например: Калерия. Для постороннего человека это просто необычное имя, даже, может быть, неправильно написанное географическое название «КаРЕлия». А для нас с Поппинсом это синоним девушки-давалки, которая дает каждому, но не тебе. Когда-то, в седьмом, кажется, классе, у нас целую четверть немецкий язык преподавала молодая учительница Калерия Дмитриевна. И я, и Поппинс влюбились в нее — бесповоротно и яростно. Калерия была грудастой, вульгарной, шумной. От нее шла волна того, что сейчас называется «феромонами», а в Торжке в восьмидесятые годы (да, думаю, и теперь) называли емким словом на букву «б».
Мы были так заворожены Калерией, что на ее уроках стояла гробовая тишина. Как такая райская птица прилетела в зачуханный Торжок, осталось загадкой. Возможно, она бежала от какой-то личной драмы, но потом, конечно, не задержалась. Полетела дальше…
За ту осеннюю первую четверть она успела перессорить добрую половину мужского населения нашего микрорайона. Как выяснилось, залечивая душевные раны, нанесенные где-то за пределами Торжка, она переспала с учителем физкультуры, трудовиком, тремя десятиклассниками… Мы с Поппинсом любили ее со стороны. Конечно, для Калерии мы были просто мальчишками. Не в силах прикоснуться к предмету обожания, мы садились на первую парту в ряду возле окна — перед ее учительским столом, на котором россыпью валялась всякая мишура, шариковые ручки, ракушки, конфетки, заколки… Заколками, к слову, бредила женская половина нашего класса. Откуда в Торжке можно было достать такие заколки — блестящие, разноцветные… И простых шпилек-то не было. Девочки вплетали в косы наивные ленточки, но так хотелось заколок.
Мы с Поппинсом сидели под носом у Калерии не случайно. Обычно наше место было Камчатка, последняя парта. А тут мы садились на первую парту и под стол Калерии клали зеркальце. В зеркальце можно было увидеть (мельком, конечно, когда немка вставала) то, что находится у нее под прямой юбкой. Юбка была натянута на бедра плотно, как барабан. «Как танковый чехол», — сказал цинично Шубин. За что моментально ему «прилетело» в ухо от Поппинса. О, Поппинс оказался настоящим рыцарем…
Танька все видела, она страдала. Она понимала, что любимый Женька отдаляется. Что Калерия завладевает им все сильнее… Что она могла сделать — маленькая Танька, упитанная, как цыпленок-бройлер? Она решила, что дело в проклятых заколочках. Вот если б у нее была такая красота…
И Танька как-то после урока одну такую заколку-невидимку с нашлепкой в виде нелепой розочки незаметно со стола смахнула себе в кармашек синего форменного пиджачка.
Никто ничего не заметил. И Калерия, конечно, тоже.
Но девчонки — они же предательницы! У баб никогда не может быть настоящей, как у мужиков, дружбы. И, когда Танька, выйдя из школы, заколочку нацепила на свои мягкие темные волосы, заплетенные аккуратной косичкой-колосок, одноклассницы все поняли.
И Калерии донесли уже на следующий день.
На уроке немецкого языка Калерия подошла к бледной Таньке. Высокая, уверенная в себе. Спросила прямо:
— Татьяна, это пушкинское имя! Лучшая героиня Пушкина звалась Татьяной. Твое имя предполагает самые хорошие черты русской женщины. Так вот, Татьяна, но не Ларина, ты не знаешь, где моя заколочка? Она была у меня на столе.
Танька встала, вся покрылась красными пятнами. Отпираться было бесполезно. Класс замер.
До сих пор мне стыдно и горько это вспоминать. Искушение. Маленькая блестящая заколочка, простая девочка Таня, роскошная и сильная Калерия.
Тишину можно было резать ножом — такая она была плотная.
— Я спросила — отвечай, — прозвучал металлический голос немки.
— Это я виноват, — встал Женька Поппинс. — Я взял заколку с вашего стола. Я не знал, что она вам нужна. Я думал, что у вас много.
Скандала не случилось. Что взять с двоечника Поппинса? Тем более — такого обаятельного двоечника, который был явно влюблен в учительницу немецкого…
А может, Калерия просто оказалась мудрым педагогом? Ведь часто педагогическая мудрость заключается в том, чтобы просто не давить, не топтать. Отойти в сторону.
После осенних каникул у нас сменилась училка немецкого. Появилась новая, по фамилии Черняховская — засушенная пожилая моль в огромных очках. Калерия просто исчезла, оставив на наших пубертатных сердцах незаживающие раны. На первой парте мы с Поппинсом больше не сидели. Райская птица улетела дальше. Клетка Торжка была ей мала. Только крошечное перышко из своего хвоста, блестящую заколку с розочкой, обронила.
* * *
Или, например, мы с Поппинсом можем просто валяться от хохота, когда мужики зовут куда-нибудь на рыбалку. Никто не понимает: почему? Нормальная же мужская забава! Все любят.
А мы с Поппинсом угораем. В девятом классе как-то пошли с ним на зимнюю рыбалку — удить на реке Тверца. Торжок пересекает живописная речка Тверца, зимой на ней прочный лед. Рыбаки сверлят лунки, прикармливают в них рыбешку. И целыми днями, ближе к весне, когда рыба уже не такая спящая, сидят над этими лунками.
Пошли и мы с Женькой. Мать наказала:
— К обеду возвращайтесь!
Взяли тормозок — отварную картошку в мундире, пару соленых огурцов, хлеб.
На особый успех не рассчитывали.
А рыба-то вдруг пошла! То ли день был такой особенный, то ли рыба особо голодная, то ли нам просто подфартило.
Клевало не переставая!
Сначала после каждой вытащенной рыбешки мы бегали друг к другу (удили в разных лунках), оценивали размер. Рыбки все были как будто их сделали на станке: одинаково мелкие плотвички с красными безумными глазами, величиной с детскую ладошку. Они прыгали на льду какое-то время, а потом замерзали — засыпали. Потом рыбы стало так много, что мы даже уже не успевали друг перед другом хвалиться успехами.
Мы не могли уйти с этого места. Такой фарт выпадает нечасто! И с самого утра до вечера мы провели на реке.
Мы забыли даже про тормозок. Я думаю, если бы не мать, которая прибежала к нам в вечерних сумерках, мы не ушли бы оттуда по собственной воле никогда. Обуяла жадность. Наверное, это можно назвать так. А можно и по-другому: удивительный азарт охотника. Целая гора мелкой никчемной рыбешки — ее потом отдали кошкам, потому что чистить никто не захотел «таких вошей». Так назвала наш улов мать.
А мы оба заболели, Поппинс отделался простудой, а я с ангиной провалялся больше двух недель…
Рыбалкой мы больше не интересовались. Наверное, слишком сильное впечатление получили тогда, на мартовской Тверце. Когда клевало не переставая. «Плотва мелкая, зато много», — скажет, бывало, Поппинс про клиентуру созданной нами стоматологической клиники «Народный зуб».
И все сразу ясно.
* * *
Помимо самурайского меча, у Эльки дома на стене висел большой портрет Гагарина. Тот, самый известный, где он с широкой светлой улыбкой. Взгляд его лучистый.
— Почему Гагарин? Ты в детстве мечтала стать космонавтом? — спросил я как-то Эльку.
Она стала удивительно серьезной.
— Потому что я искренне считаю, что Юрий Гагарин один из лучших представителей человечества. Посмотри, какие у него глаза… Он всматривается в нас — сегодняшних — внимательно. Он спрашивает: ну что, ребята, как у вас, в двадцать первом веке? Многого достигли?! На Марс слетали? Больше не жрете друг друга? Дети от голода не умирают? Ты понимаешь, о чем я?
Я понял. У меня тоже было это ощущение — что мы должны держать ответ перед Гагариным. Ответить ему, к сожалению, ничего хорошего мы не могли. О чем рассказать? О том, что голубые браки это нормально и даже, более того, нормальнее обыкновенных? О том, что с экранов навязчиво лезут «поющие трусы», что главные персонажи в газетах и журналах — не ученые и педагоги, а певцы и актеры, причем не самые лучшие? О том, что мы из тех, кто строит коммунизм, превратились в самое настоящее общество потребления и все потребляем, потребляем… Как у Стругацких: «Кадавр жрал». Вот и мы — такие же кадавры. Жрем, жрем. Айфоны, машины, шмотки. Когда-нибудь лопнем.
И, главное, никто из нас не будет рисковать жизнью ради общего интереса. Как рисковал Гагарин, улетая в неведомый Космос. Ведь это был риск. Кто бы сейчас так смог…
Мы стояли с Элькой перед портретом Гагарина, и я вдруг почувствовал, как наши сердца бьются в -унисон.
— А еще — сейчас никто не умеет так улыбаться. Открыто, искренне. Знаешь, когда ты принес мне сумочку, — тогда, в первый раз, помнишь? Ты улыбался очень похоже.
Мысленно я возблагодарил — который раз — суровую врачиху-стоматолога, лихо вырвавшую мне вампирский клык…
* * *
Как ни странно, Поппинс и Элька возненавидели друг друга сразу. Я устроил им встречу — очень хотелось познакомить двух самых близких мне людей… Но Элька вела себя как дикая кошка, разве что не фыркала.
Зацепились они, что называется, сразу. Вся страна праздновала присоединение Крыма. Поппинс по этому случаю заказал шампанское.
— Сейчас лучший момент для того, чтобы доказать всей стране, что победители — это мы! Не только наши деды и прадеды. Но и мы — тоже!
— Это — кто? Ты и Всеволодька, что ли? — спросила Элька.
Я держал ее за руку и почувствовал, как ладошка стала жесткой и сухой.
— Да, мы! Мы делаем себя сами. Если бы ты знала, детка, через что нам пришлось пройти… — Поппинсу явно хотелось придать веса нашему торжокскому прошлому. По правде сказать, ничего героического и драматического в нем не было. Если, конечно, не считать обычные для любого мальчишки драки «до первой крови» и исступленный лов плотвы… Да, мы не ушли в бандиты, не стали быками в криминальных бригадах и на киче не парились. И контрольных выстрелов в голову мы, слава богу, в своей жизни не выдавали.
— К победе нужно быть готовыми. Не только получать награды и знамена. Надо чем-то жертвовать. А чем вы можете пожертвовать… Да и я тоже… — сказала Элька сердито.
— Яблок своих девать некуда! — фонтанировал Поппинс. — Завалим еще всю страну яблоками. Сев, помнишь, какие в школьном саду были антоновки…
Антоновки я помнил. И Крыму тоже радовался. Подумал, может, съездим с Элькой туда летом на недельку… Я знал, что там есть гора Аю-Даг, и она похожа на медведя.
— Чего же вы сюда приперлись — в Москву — от своих яблок из школьного сада? Знаете, есть такая пословица: где родился, там и пригодился. — Элька выдернула свою ладонь из моих рук.
— Эль, ну что ты сердишься. Яблоки — это фигура речи, не более того. А если бы мы не приехали -сюда, то я бы тебя не встретил, — попытался я ее смягчить.
— Может, я была бы от этого счастливее. И ты тоже, — не отступала Элька.
— Осталось только сказать: Москва не резиновая, — попытался пошутить Поппинс.
— Я тоже так подумала, но не стала говорить вслух, — сказала моя прямолинейная подруга.
Поппинс посидел с нами совсем недолго, потом почти убежал, сославшись на срочную встречу, — но я-то знал своего друга и понял, что никакой срочной встречи нет…
Элька вообще была странным человеком. Ее или любили, или ненавидели. Никого она не оставляла равнодушным…
— Эль, Женька мой лучший друг! Чего ты на него нападаешь? — спросил я.
— Ты что, не видишь, что он просто ноль, аферист? Вообще не понимаю, как вы можете дружить! Что вас вообще связывает!
Трудно было объяснить Эльке про мужскую дружбу, про то, что связаны мы нашим общим детством, общим прошлым… Калерия, драки — спина к спине. Общее «покорение Москвы». Да много чего. Мы с Поппинсом из одной обоймы. Горошины из одного стручка.
— Ты знаешь про эффект Даннинга-Крюггера? — спросила Элька.
Я знал только про Фрэдди Крюггера.
— Ну, это пример того, что люди с низким уровнем квалификации, да и образования вообще, неспособны критично относиться к своим решениям. Именно потому, что в силу собственной тупости и необразованности не могут адекватно оценить свои действия! Поэтому у них всегда завышенные представления о себе и своих способностях. У японцев есть хорошая поговорка: «Самонадеянность — враг твой…» Вот твой Поппинс как раз такой.
А обратная сторона этого эффекта заключается в том, что более умные и образованные люди куда как более сомневающиеся. Не уверенные в себе. Это ты. Подумай об этом. Ты хорошо учился, ты квалифицированный специалист. А Поппинс, паразит, теперь твой начальник. Босс!
— Эль, у него есть другие качества! Он прекрасный организатор. В нем есть риск и смелость.
— Не смелость, а наглость! Я ненавижу таких людей. Просто ненавижу. И видеть его не хочу. А ты еще поймешь.
Я не хотел ничего понимать. Очень расстроился, что Элька так говорит.
* * *
— Котик, я совершила ужасный поступок, — говорит мне Маруся. Ее голосок дрожит. Она ковыряет ложечкой мороженое в продолговатой вазочке-ладье — кажется, оно называется банана-сплит. Банан, разрезанный напополам, украшен разноцветными шариками мороженого и взбитыми сливками. Сбоку — забавный зонтик из гофрированной бумаги.
— Я тебе могу чем-то помочь? Не расстраивайся, пожалуйста. Я уверен, все поправимо.
— Я сегодня посмотрела сюжет про то, что одна девочка из Курска, ей три года, больна. Неизлечимо больна. Ее привезли лечить в Москву, а у нее было уже несколько остановок сердца, и она такая бледная, каждая жилка видна. И совсем лысая… Там был указан номер счета, на который можно перечислить деньги. И я перечислила… Много. Все, что у меня было на карточке. Я боюсь сказать папе. Это ведь он мне дает деньги на месяц. И я все сразу потратила.
Я умиляюсь — какая она все-таки милая! Таких девушек уже сняли с производства. Как же мне повезло…
— Зайка, а много денег? Я тебе могу дать их. Только не расстраивайся.
— Нет-нет, не надо! Я не потому рассказала.
Идет борьба благородств; я предлагаю ей деньги, она отказывается. Потом называет сумму — ничего себе, какие деньжищи, оказывается, моей любимой папаша дает на карманные расходы!..
Я смущенно бормочу:
— Зая, у меня столько с собой нет, возьмешь пятерку?
Маруся берет красненькую купюру, потупившись.
Я впервые задумываюсь: потяну ли я такую девушку? Еще и с задатками мецената…
* * *
— Сокол, скажи, а какие опасности подстерегают того, кто увлечен жизнью во снах?
— Ну, главная опасность, — человек может перестать интересоваться реальной жизнью и начать жить в мире сновидений. Например, я знаю одну фройляйн — она придумала себе во сне семью, мужа, дом… И целыми днями спит. Смотрит свою жизнь с продолжением. Уже несколько лет… Зависимость, безусловно.
Но с таким же успехом можно попасть в зависимость от еды, от алкоголя, от наркоты. От работы. Да мало ли — от чего! Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь… Понимаешь? Есть такие вещи, которые ты можешь делать только во сне. А в жизни…
Сокол резко замолчал.
* * *
Я полюбил спать. Наверное, это неправильно для взрослого мужчины и даже звучит как-то кисейно. Или кисельно… Перестал сидеть вечерами с Поппинсом, спешу домой. Потому что «Сокол» мне говорит: очень важен настрой перед сном. Мне не нужны «осознанки» сами по себе. Мне нужно там встречаться с Элькой. Мы так и не успели друг другу ничего сказать. К сожалению, выйти в осознанное сновидение удается крайне редко. В моем дневнике снов так мало записей… Хотя я стараюсь каждый день. Говорят, даже маститым гуру удается улететь не чаще пары раз в неделю. Что уж говорить про такого новичка, как я.
Сокол говорит — надо тренироваться. И я ложусь совсем рано, в детское время — девять часов вечера. И вспоминаю, вспоминаю. И прошу: приснись мне. А то я опять стану крошечным паучком и полечу к солнцу, забыв о тебе. А этого никак нельзя допустить.
* * *
Элька гоняла на мотоцикле как ненормальная. Вообще, по чесноку, ей очень шла и черная мотоциклетная куртка, и новенький, блестящий мотоцикл, — черно-желтый. «Мой жучок», — называла она свой байк.
Еще говорила, что мотоцикл — самый удобный вид транспорта в Москве.
Как-то взяла меня на байкерскую тусовку, она проходила на Воробьевых горах. Такого количества мотоциклов я до этого не видел. В основном — какие-то немолодые бородатые дядьки. Они просто собрались своей стаей «Ночных волков» (так они себя называли). Мотоциклы ревели, байкеры кидали друг другу приветствия. Гремела музыка. Слышались громкие матюки и радостные возгласы. Элька была здесь совсем своя. Со многими из бородатых «волков» она троекратно целовалась, перекидывалась какими-то словечками… Я чувствовал себя не в своей тарелке.
Во-первых, я приехал за спиной у Эльки и чувствовал себя пыльным рюкзаком. Таким же бессловесным и ненужным.
Во-вторых, мне неприятна была такая Элькина компания. Что я вообще знаю о своей девушке? Вспомнилась коллекция блестящих фаллосов у нее в студии. Может, это слепки с членов каких-нибудь ночных волков?
— Всё, поехали, — сказала Элька. — Я покажу тебе место, куда в Москве уходит ночевать солнце…
Незабываемая картина!.. Солнце, которое садится за башни Москва-Сити. Тогда еще недостроенные, но все равно прекрасные. Во мне всегда оставался этот восхищенный мальчик из Торжка, который приехал в Москву на свою первую экскурсию. Когда нас привезли на Ленинградский вокзал, тогда, в восьмидесятые, мы с Поппинсом подумали: вот он, Кремль! А это оказалась гостиница «Украина».
Уже тогда стало понятно, что Москва город удивительный. Единственный, неповторимый.
А сейчас еще Элька показала мне вишневый закат… Солнце отражалось в каждом из многочисленных окон. Башни казались ультрамариново-синими, а по ним скользили ярко-оранжевые солнечные блики.
А рыжие Элькины волосы, казалось, светились не меньше, чем отражения в окнах.
Я был влюблен и счастлив.
Я тоже хотел показать Эльке закат в моем Торжке. Там солнце садится за Борисоглебский монастырь. А за монастырем — лес… Там растут лисички и белые грибы… И солнце так же отражается в ряби Тверцы.
Почему я тогда ей об этом не сказал? Постеснялся… Все-таки мы с Поппинсом провинциальные сморчки, которые стыдятся своей малой родины.
* * *
ОСОЗНАНКА ПЯТАЯ
Счастье
Потрясающий сон!!! Я в восторге. Сегодня получился именно тот эффект, которого я ждал на протяжении двух месяцев тренировок. Как только я осознал свои руки, повернулся вокруг своей оси — это тоже хороший прием для того, чтобы почувствовать себя в сновидении, — и вдруг раскрутился юлой. Крутился и не мог остановиться. Оказалось, что я — клубок, и вокруг меня золотая нить, которая наматывается на меня, как на шпульку. Когда я стал совсем круглым шариком, нить вдруг оборвалась и я подпрыгнул. Сегодня я решил не двигаться в сторону пропасти, как в прошлый раз. Я решил пойти, вернеепопрыгать, за кусты, над которыми по-прежнему роились попугаи. Ведь я, по человеческой привычке, все время пытался идти по дороге: а оно мне надо? За кустами оказалось поле, заросшее цветами. Колокольчики, ромашки, маки. Я силился разглядеть желтые купальницы — их очень любит моя мама, купальницы растут в начале лета возле Торжка. И я понимаю: я и нахожусь возле Торжка! Мой родной город сейчас просто прекрасен, как в далеком детстве. И даже прекраснее. Потому что он весь лубочный, пряничный. Здесь уже нет бандитов. Никто не парится на киче, и никто не идет в несознанку. Мост через Тверцу расписной, монастырь на одном берегу, златоглавая церковь на другом. Звонят колокола. Я понимаю, что это какой-то большой церковный праздник, мне легко и светло. Жаль только, что я шар! Как же я покажусь своим родителям таким вот колобком? Один прыжок — и я перемахиваю через мост, здесь должна быть наша школа, а потом рукой подать до родного дома, но вместо школы вдруг вишневые деревья. Они все в гроздьях ягод! Каждая ягода светится, как будто в ней горит маленький фонарик. Я прыгаю под деревом, я хочу добраться до ягод и понимаю, что я сам ягода. И я вишу на дереве. Бывают такие вишенки, которые висят на одной веточке — как близняшки. И вот я такая вишенка. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на свою соседку, и понимаю, что моя соседка — ура — Элька! Она смеется. Ты нашел меня, молодец! — кажется, говорит она. Я просто считываю информацию, никаких слов нет, и из звуков вообще только звон колоколов.
Это такое чувство единения, это такое полное счастье. Мы наполнены вишневым соком, мы — как -сообщающиеся сосуды с единой кровеносной системой. И я знаю, что наша кровь сладкая и густая. Ведь это сок.
Элька приказывает мне посмотреть на Тверцу, и я вижу там двух пацанов. Они ловят рыбу.
Я думаю, что это я и Поппинс, — это же было когда-то, безумие с плотвой. Но ведь сейчас — лето? А то было ранней весной. Лед еще не пошел. Элька грустнеет, и я понимаю: что-то не так. Мы отрываемся с ней вдвоем — две вишенки-падалицы. Не разрывая объятий, летим к реке, и теперь я отчетливо понимаю, что эти мальчишки рыжеголовые, один постарше, другой помладше. Наверное, братья. Думай, думай, транслирует мне Элька.
Это наши сыновья? — это они?
Да! Молодец, догадался! Я вижу, как разглаживаются крошечные морщинки у ее глаз. Она уже не вишенка. Она — взрослая женщина, рыжие волосы заплетены в строгую косу, босая, идет с коромыслом, а я — вот потеха — сижу в ведре! А в другом ведре — щука. Вода должна быть ледяная, она же колодезная, но я не чувствую холода. Мальчишки бегут за нами.
Как же она тащит меня, худенькая Элька? И главное, как я поместился в маленьком ведре? Картинка бледнеет.
Стой, нет, я пытаюсь посмотреть на свои руки, чтобы опять вернуться в сновидение, но плечи плотно стиснуты — в ведре ужасно тесно, и рук не достать никак. Просыпаюсь.

* * *
— Зайка, скажи, ты до меня не была влюблена? — мы лежали с Марусей в моей жулебинской однушке. Маруся оказалась девственницей. Я чувствовал себя первопроходцем, более того, мое мужское Эго было польщено. Мне казалось что я — альфа-самец. Альфач.
В мужских пьяных беседах мы иногда выясняли: сколько девчонок лишили мы невинности? Оказывается, только Поппинс мог похвастаться тем, что Танька досталась ему невинной. Остальным рассказать было нечего…
Мы спрашивали у Поппинса: как это бывает, когда рвется девственная плева? Чпок? Чвак? Какие ощущения? Поппинс только смеялся и махал на нас рукой. Говорил, что это было так давно, — он уже и не помнит, чпок, чвак, шмяк…
А еще мучил вопрос: ведь «на десять девчонок по статистике девять ребят». Значит, кому-то они достаются, все эти нежные девы? Почему же в основном попадаются только те, которые уже «откупорены»? Даже обидно как-то становилось…
Поэтому невинность Маруси казалась мне заслуженной наградой. Хотелось рассказать об этом всему миру… По крайней мере, Поппинсу. Пусть не важ-ничает.
Кстати, действительно никакого «чпок» не было. Только легкое сопротивление, да маленькое пятнышко крови, да милая слезинка на щеке Маруси… «Девочка моя, — шептал я. — Самая, самая любимая».
— Мне нравился один мальчик, Алеша Соколов, — сказала Маруся. — Только ты не сердись, ладно? У меня с ним ничего не было… Мы только целовались. Он пригласил меня к себе встречать Новый год, я тогда училась в десятом классе. А Алеша в одиннадцатом. Он был сын друзей моих родителей, у нас дачные дома рядом…
Я нахмурился. Алеша еще какой-то… С загородным домом… Правильно говорит Поппинс — нам, торжокским мальчикам, надо пробиваться локтями между бездельниками-мажорами. Нельзя ослаблять хватку.
— Мы полюбили друг друга летом, на даче. И он сказал — давай Новый год отметим вместе, и там… ну… всё произойдет. — Маруся покраснела.
— Ну?!
— Я дала ему книжку прочитать. Он, правда, мало читал. Вообще был такой… Теннис любил и кино. А читать не любил. Вот я и дала ему «Идиот» Достоевского. Сказала: если ты хочешь понять меня, ты должен прочитать книгу… Дурочка я, конечно, была. У меня был такой период, я увлекалась Достоевским. Думала, что я — Аглая…. Не важно.
Я уже понял, что случилось. Этот олух не прочитал Достоевского. И Зая ему отказала в близости. На самый Новый год…
— Но главное, Севочка, он мне сказал, что прочитал! Понимаешь? Обманул меня…
— А ты что же, проверяла знание текста? Как училка литературы?
— Не смейся! Не проверяла, конечно. Даже не могла представить, что так можно… Обмануть… Я спросила его, кто я, по его мнению, — Аглая или Настасья Филипповна? А он сказал: «Ты — Муму!» Козлина. Он читал только «Муму». Открой мне лимонадик, пожалуйста.
Я послушно пошел к холодильнику — там стояла бутылка с детским напитком. Зайка любит лимонадик… Маленькая моя.
* * *
Сокол наставлял меня, как вести себя в мире снов. Он говорил:
— Ищи «еду» и «воздух» в сновидении. Ты представляешь — там можно есть сколько угодно и не толстеть! Как ни странно, от этого ощущается удивительный прилив сил…
— Ну, неужели надо с таким трудом попадать в мир сновидений, чтобы банально обжираться?!
— Да нет… Там много всего загадочного и непонятного… Есть те, кто выучил язык во сне. Например, китайский. А кто-то говорит, что встретил во сне своего знакомого. А потом, проснувшись, видит этого знакомого, например, на улице. И они рассказывают друг другу один и тот же сон! Как они там встретились? Есть даже такие, которые рассказывают, что утащили из сна в реальность небольшой предмет. Например, золотую монетку или камешек… У меня нет оснований не доверять этим людям…
* * *
На прием ко мне пришел упитанный и наглый мальчишка Шурка Вишняков. Он рассуждает как взрослый. Очень смешно. Такой маленький деловой мужичок.
Мне интересно с ним беседовать.
Например, недавно он мне сказал:
— Есть люди, которые выпендриваются айфоном. А есть люди, которые выпендриваются тем, что у них нет айфона.
Я спросил:
— А ты чем выпендриваешься?
Шурка ответил:
— А я выпендриваюсь умными словами. Например, вместо «хреновина» я говорю «артефакт». А в голове все равно думаю: «хреновина». Просто когда говоришь «артефакт», то окружающие сразу думают, что я очень образованный. А я не такой уж образованный, я — хитрый. А хитрость — это бытовой ум.
Вишняков приходит ко мне каждую неделю, по четвергам. Причем не записывается заранее. Приходит неожиданно и приносит в кулачке брекет. Говорит: оторвался, надо подклеить.
Мне несложно подклеить брекет, просто такие регулярные визиты стали казаться подозрительными.
Я спросил у Шурки, почему брекеты отклеиваются строго по определенным дням? Он ответил:
— Потому что по четвергам у меня информатика, и я не хочу на нее ходить.
— Как же так, ты не любишь информатику, — это же для вашего поколения должен быть самый интересный предмет?
— Да потому, что мы там учим какой-то дурацкий компьютерный язык. Называется «Кумир». Пишем программы… Я доказывал училке, ее зовут Глыба, что мы пользователи, и нам надо давать то, что нам интересно. А она сказала, что за наглость я буду учить еще и какой-то бесик. Не знаю, что это. Решил вообще не ходить… Вы уж маме не говорите, ладно?
— Бейсик, а не бесик… Не любишь, значит, школу?
— А чего там любить? Школа подавляет индивидуальность. Вообще я могу выиграть любой спор и без особых знаний. Надо просто задавать по очереди три вопроса.
— Интересно, какие?
— «И что?», «Сам понял, что сказал?», «Обоснуй!»
— Шур, ты сам понял, что сказал? — засмеялся я.
Но вообще-то в его словах есть доля правды. Иногда мне кажется, что Поппинс так же выигрывает все споры…
Подклеил Шурке брекет. Справку в школу написал. Секретарша Любашка поставила печать.
* * *
Воспоминания с Элькой не только радостные. Горьких тоже много. Куда больше, чем мне хотелось бы…
Элька куда-то иногда исчезала. Не подходила к телефону, на эсэмэски не отвечала. Потом, как ни в чем не бывало, звонила сама.
— Але! — говорила она своим роскошным низким голосом. — Как живете, караси?
Мне следовало, по традиции, ответить:
— Ничего себе, мерси!
Но я сердился. Я говорил:
— Где ты пропадала три дня? Я с ума сходил…
Элька смеялась:
— Ты что, Отелло? Не забывай, что я человек свободный. Куда хочу, туда и пропадаю!
У Эльки была своя жизнь, в которую меня она не впускала. Да что там — не впускала… Даже на пороге не позволяла потоптаться. Даже глазком заглянуть. Мы редко встречались, и всегда только — когда хотела она. Но зато каждая встреча с Элькой была настоящим праздником. С ней было интересно. Неспокойно и тревожно. Она очень много знала, Элька. Пожалуй, она была феминистка.
По крупицам я собирал о ней информацию — из случайно оброненных фраз, из обрывков разговоров с общими знакомыми. Хотя, по правде, у нас был с ней разный круг общения.
Иногда она приглашала меня к себе в ту роскошную студию, где «проходила ее основная жизнь», — так сказала Элька.
Где была оставшаяся часть жизни — оставалось только догадываться.
Я спросил у нее как-то: откуда у нее такая роскошная, дорогая квартира?
— Подарил друг, а что? — спросила она.
— У тебя с ним что-то было? — задал я еще один глупый вопрос.
— Не только было, но и есть. А что?
— Как это — что? Сейчас, что ли, ты с ним тоже встречаешься? И с ним, и со мной?!
— Послушай, милый друг, а я с тобой разве встречаюсь? Я с тобой изредка трахаюсь! — цинично ответила Элька.
Мне хотелось плакать от обиды, от жалости к себе. Я еле сдерживался…
«Уйди! Включи мужика! Дай ей в рыло и уйди!» — думал я.
И не мог уйти, а лишь глупо улыбался.
Я не знал, кого сильнее ненавижу — себя или ее.
— А что это за коллекция гипсовых членов? — решил идти до конца.
— На память о мужчинах, которые у меня были. Я леплю их. Чтобы не забыть. Ты знаешь, ведь каждый член индивидуален, так же, как и его хозяин… Нет двух одинаковых… Если ты заметил, они выполнены в японском стиле «нэцке». Нэцке вырезают из слоновой кости…
Она улыбнулась.
— Слоновой кости у меня нет. Поэтому леплю из гипса… У японцев есть целое направление, называется «сюнга» — произведения искусства эротического содержания: картины, гравюры, нэцке… Вообще, у японцев фаллический символ и изображение его не имеют явно выраженного отрицательного значения. Фаллос — символ плодородия и удачи. Скульптуры огромного фаллоса установлены во многих храмах. А маленькие, сувенирные членики продаются на счастье. Вот и я… Ищу свое счастье!
Так и сказала — «сувенирные членики». Ищет она свое фаллическое счастье!
Я задыхался:
— Да здесь просто частокол! Что, и мой есть тоже? — мне хотелось казаться крутым и безразличным. Но мальчик, маленький торжокский мальчик с кривым торчащим зубом, Севка по прозвищу «Клык», скорчился, как уродливый зародыш. Он рыдал в голос. Слава богу, Элька этого не видела и не слышала…
— Есть и твой. — Элька прошла к своей коллекции, занесла руку над «частоколом»… — Вот, полюбуйся, Всеволодька.
У меня пересохло во рту. По правде сказать, это был очень скромный и даже миниатюрный фаллос. На фоне других… Он был вылеплен в виде брелока к ключам. Настоящее японское нэцке. Вполне симпатичный членчик. Сувенирный.
— А ты все-таки сука, — мне казалось, что я кричу. Но из горла вырвался только какой-то сип.
— Да? А почему это, интересно? Я что, не оправдала твоих надежд? Я не Натали Гончарова? Не тургеневская Ася? Как же вы меня все бесите! Я всем, видите ли, должна! Женщины у нас в стране всем должны. И всегда неправы.
— Никто не требует от тебя быть тургеневской! Но вот это, — я ткнул в гипсовые нэцке, — это же ужас! Ты же — женщина!
Лучше бы я этого не говорил.
Элька разозлилась по-настоящему. Она просто орала, визжала как ведьма.
— Не смей! Не смей так говорить! Как бабка у подъезда! Как мой отец! Как мои тетки! Они про всех всегда говорили. Всегда плохо! Только стереотипы, только желание говорить гадости! Много учишься — ботаничка! Рано вышла замуж — залетела! Не вышла замуж — никому не нужна! Не родила — больная! Рано родила — шлюха! Много родила — сирот наплодила, нищебродов! Много работаешь — синий чулок! Не работаешь — лежебока! Если хочешь квартиру, ездить на море отдыхать, машину водишь, — а морда не треснет, а руки к себе гнутся! Так вот, знай, я буду жить так, как я хочу! И делать то, что я хочу! А это… это… я просто разобью! — Она швырнула один из «нэцке» — конечно, «мой» — об выложенный плиткой пол.
Как в замедленной съемке, я увидел: шикарная плитка, наверное, испанская, — бело-дымчато-золотая. С модным диагональным рисунком… И разлетевшиеся осколки того, что недавно олицетворяло мое недолгое пребывание в Элькиной жизни.
— А теперь — пошел вон, — сказала она, уже совершенно спокойная.
Я развернулся и ушел. Сказать мне было нечего…
* * *
ОСОЗНАНКА ШЕСТАЯ
Страшная
Не надо вспоминать плохое. Сегодняшнее О.С. было просто страшным. Хотя вроде бы ничего не произошло. Я вышел на дорогу и почувствовал, что день сегодня здесь хмурый и мрачный, и трава не зеленая, а какая-то пожухлая. Я не стал рисковать, с тем чтобы поменять ее цвет. Попугаев тоже не было видно. Но главное — за кустами кто-то сидел. Кто-то или что-то. Какая-то мрачная сущность, которая наблюдала за мной. Я взмахнул рукой, и в руке у меня оказалась почему-то кривая турецкая сабля, отдаленно похожая на серп. «Хочешь — сей, а хочешь — куй» — всплыли слова из дурацкой частушки. Нельзя смеяться собственным шуткам. И надо радоваться тому, что есть. Это я понял в тот миг, когда моя сабля вдруг оплавилась, видоизменилась и превратилась в вязальную спицу. Спицу тоже можно воткнуть в глаз чудовищу, если оно вздумает напасть.
Я шагнул к кустам, но они стали отдаляться от меня. Я делал шаг к ним — они отъезжали на два метра. Так, очень быстро, они уменьшились в размерах и ушли за горизонт. Я стоял один. Со спицей в руках. От злости, что мой собственный сон меня не слушается, я воткнул спицу себе в левую ладонь — она прошла навылет, и я проснулся.

* * *
Я спросил у «Сокола», где моя любимая… Шутка. Я спросил у него, что это был за неосознанный страх, который преследовал меня? Кто смотрел на меня из-за кустов, или, может, это просто мои расшатанные нервы?
Сокол, обычно очень спокойный и юморной, взволновался.
— Ты должен быть осторожен, Клык. Ты должен быть очень осторожен с темными сущностями! Ведь мир наших сновидений, так же, как и мир реальный, населен не только добром. Зло зорко высматривает себе жертву. Оно может принять самое разное об-личье и напасть внезапно. Тебе повезло — ты интуит, наверное, раз почувствовал даже просто недобрый взгляд.
— А как распознать темную сущность, что ей вообще надо?
— Выпить твою энергию. Выбить из сна или, наоборот, заблокировать в нем навсегда… Пожалуй, это единственная опасность, которая поджидает нас, ловцов сновидений. Как тебе такая перспектива — зависнуть между двумя мирами? Не советую вступать в схватку. Такие сущности бывают очень сильны. А как выглядят… Да каждого преследует свой кошмар. Кого-то — орки и гоблины Мордора, кого-то толстяк Канасибари, злобный анимашка, кого-то обычный домовой… А самое страшное — это суккуб. Ты слышал про суккуб?
— Неееет…
— А ты погугли. Суккуб — это, можно сказать, сатана, принявшая женский облик. Демоница, ищущая любовников-жертв. Она не только выпивает твою энергию — ты сам отдаешься ей с наслаждением, с каждым разом ищешь встреч, и ничего для тебя уже не важно. В своем сне ты не будешь больше объедаться пряниками и райскими яблоками, летать к звездам и доставать жемчуг с морского дна. Ты будешь только снова и снова совокупляться с проклятой тварью. Пока не обессилешь окончательно.
— А можно ее убить? Суккубу эту.
— Лучше просто не попадайся ей в лапы. Силы слишком неравны.
* * *
— Как ты думаешь, купить или нет? — спросил меня Поппинс.
Он примерял черные ботинки. Носок лаковый, остальное — обычная черная кожа.
Оказалось, не такая уж обычная. Стоили ботинки семьсот зеленых, в рублях по курсу.
— Куда ты в таких будешь ходить? Такие только на свадьбу или на вручение Государственной премии… — сказал я.
Ботинки принесли прямо в нашу клинику. Молодая девка-курьер, похожая на матрешку. Такая же краснощекая, лупоглазая. На голове — разноцветные «перья», в ушах огромные серьги, на пальце — кольцо с зеленой стекляшкой. Вряд ли настоящий изумруд…
— Милая, — важно сказал Поппинс девахе. — Понимаешь, у каждого товара есть своя цена. Как ты думаешь, что в этих ботинках особенного — такого, чтобы я захотел их купить?
— Ну дык… Сносу им не будет! Они не промокают! А потом это фирма€! — нашлась курьерша. Она, и правда, была позитивная и веселая. Полные губы так и готовы были разъехаться в улыбке.
— А как зовут? — спросил Поппинс.
Я заметил, что он с любопытством поглядывает на толстушку. Ему нравились такие — налитые, яркие, нахальные. Они были одной породы с Поппинсом…
— Кого, фирму€?
— Да нет! Тебя!
— Олеся!
— Кудесница леса Олеся, — сострил Поппинс, и по тому, как Олеся сморщила нос, я понял, что эту шутку говорит ей каждый второй.
— А ботинки хороши! Вот и вы скажете, что хороши! А на вторую пару будет скидочка, может, еще коришневые возьмете? У меня коришневые где-то есть…
Поппинс ботинки все-таки не купил. Но взял у Олеси телефон — на случай, если вдруг передумает. Она записала на листочке в клеточку: «Олеся. Ботинк. 43 разм.кокраз».
— Что такое — кокраз? — спросил Поппинс.
— Ну, ваш размер как раз сорок третий! — пояснила Олеся.
Одарила нас улыбкой и ушла, хлопнув дверью. Звякнули колокольчики при входе.
— Не Калерия! — глубокомысленно заметил Поппинс.
* * *
Я боялся встретиться с «темной сущностью». Поискал в интернете про суккубов — действительно, встреча с ними не сулила ничего хорошего.
Тысячи картинок, которые услужливо предоставила мне поисковая система, показывали самые разные изображения суккубов — от безобразных ведьм с вампирскими клыками и сморщенными лицами до гоголевской панночки с белым, очаровательным личиком. Многие были настоящими секс-бомбами с распущенными волосами, похотливо открытыми губами и торчащими грудями. «Существо желанное, а не ужасное», — прочитал я подпись под одной из картинок.
Я прочитал в википедии про Мару, лесного демона-душителя, от имени которой, возможно, и происходит слово «кошмар». Не все исследователи причисляют этот род демона к суккубам, но и те, и другие относятся к демонам сна.
Я погружался во весь этот бред — и выстраивалась стройная теория параллельного мира. Мне становилось по-настоящему страшно. А имя «Мара» вообще показалось до боли знакомым…
Пожалуй, самая интересная история про суккуба рассказана Уолтером Мапесом о папе Сильвестре II. Согласно легенде, будущий папа однажды встретил красавицу Меридиану, юную девушку, которая по-обещала ему богатство и прочие жизненные блага за любовь. Сильвестр только должен был согласиться каждую ночь проводить с ней. Сильвестр с радостью согласился — Меридиана была удивительно хороша собой…
А Сильвестр стал сначала архиепископом Реймса, потом кардиналом, потом архиепископом Равенны и, наконец, папой Сильвестром II. Дело происходило около тысячелетия назад, и я с грустным удовлетворением подумал, что ничто не ново в этом мире… Ничто.
Значит, мои погружения во сны не так уж безопасны. Я подумывал о том, что надо бы остановиться. Жить в реальном мире.
* * *
Но не мог отказаться уже от своих сновидений. Мучился бессонницей, вспоминал хорошее. С Элькой хорошего было много — намного больше, чем плохого.
…После той нашей ссоры с Элькой я думал, что между нами все кончено. Но она, как ни в чем не бывало, через пару дней появилась на пороге «Народного зуба». У меня как раз заканчивалась смена, — значит, знала, во сколько я освобожусь…
— Я позвонила в клинику и спросила про тебя, — объяснила Элька. — Во сколько у тебя самый последний прием…
— У меня еще один клиент остался, — сухо сказал я.
Хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. Приехала ко мне… Элька. Боже, как же я скучал! Как боялся, что больше ее не увижу!
— Этот клиент — я, — засмеялась Элька. — Можешь осмотреть мои зубы, но я знаю, что они в порядке.
Есть что-то невозможно порочное в том, когда молодая женщина, которая нравится, залезает на стоматологическое кресло и доверчиво открывает рот. Что-то очень интимное и доверчивое. А зубы у Эльки действительно были в полном порядке. Ее явно не пытали бормашиной в передвижном стоматологическом кабинете в школе…
* * *
Элька открыла мне много чего: японскую графику, театр деней, опять же — искусство нэцке… А еще русского художника Константина Коровина. Вытащила на выставку на Крымском валу. Я и не знал, что такой Константин Коровин был… Знал Саврасова, ну и еще Шишкина, конечно. Слышал про передвижников…
В Торжке не было ни Третьяковки, ни Пушкинского музея.
— Когда я училась в художественном училище, — начала рассказывать Элька, — нам объясняли: главное — это цвет. Не бойтесь экспериментировать с цветом!
А мне все время казалось, что главное — это чтобы было похоже. То есть, вот портреты Шилова — это круто. А преподаватель живописи, Андрей Ильич, говорил мне: это пошлость! Для того чтобы добиться абсолютного сходства, есть фотография. Истинное предназначение художника — вытащить на поверхность суть вещей. А не тупо копировать…
Вот так, понемножку, я узнавал об Элькиной жизни. Что она училась, оказывается, в художественном училище…
— Или вот, например, художница Маврина. Ты знаешь Маврину? — Я смутно припомнил «Сказки Пушкина» из домашней библиотеки. Большой черный кот с желтыми глазами, мне всегда казалось, что это какой-то ребенок рисовал. — Ну да, кот. Тот, который на цепи… Так вот, сейчас для меня Маврина — это просто одна из любимых художниц. Такие летящие церкви, березы, улочки она рисует как будто одним мазком. Это высший пилотаж! При внешней легкости нарисовать так практически невозможно. Даже срисовать…
Мы ходили с Элькой по огромным залам. Она держала меня под руку. Оделась Элька в этот раз не как хиппи и не как рокерша. На ней было очень сдержанное платье — длинное, прямое, очень элегантное. Какие-то лавандовые оттенки… На плечи накинута шаль. Я и не знал, что Элька может быть такая — степенная, на каблуках, очень женственная. И даже яркий огонь волос собран на затылке в тяжелый узел.
Ее многие знали. Элька кому-то кивала, с кем-то перекидывалась словечком… Выставка Коровина была, несомненно, тусовкой для своих. Я чувствовал свою чужеродность среди этих чопорных людей, но картины меня совершенно потрясли.
Русский Север, так похожий на тверские родные пейзажи. Розовые кусты и вдали — девичий силуэт в белом платье: будто палисадник моего детства. Сиреневая кипень. Открытые мазки, и непонятно, как из них создаются пышные соцветия, кажется, влажные после дождя… Париж, где я никогда не был, но надеялся побывать. Гурзуф, море. Синее и какое-то нахальное. Дамочка смотрит с вызовом из-под шляпки.
— Элька, смотри, это ты, — шепчу я. — Смотри, как похожа… Только волосы убраны.
Элька смеется.
— Как я люблю, когда ты такой вот — как маленький мальчик, впервые увидевший что-то великое. Я представляю теперь твое выражение лица, когда ты впервые увидел море.
Элька ты моя Элька. Я море первый раз увидел не в детстве. Я его вообще пока не видел…
* * *
ОСОЗНАНКА СЕДЬМАЯ
Балерина в Париже
Живопись позволяет расцветить не только повседневную жизнь. Как выяснилось, в сегодняшнем моем О.С. картины Константина Коровина сыграли колоссальную роль. Сегодня Элька была рядом со мной в моем сне с самого начала. Она вся была измазана разноцветными красками, как пачкаются дети, когда рисуют, сначала кисточками, а потом уже и пальцами. Она берет меня за руку, и мы поднимаемся в воздух — вертикально над землей. Смотрим вниз, и я вижу, что уже знакомый мне пейзаж «Первых ворот» сейчас — это известная картина Коровина «Бульвар Капуцинок».
Некоторые спорят, что название — «Бульвар Капуцинов», но я уверен, что там был женский монастырь, где жили капуцинки. Ночь. Огни большого города. Особенно привлекательны витрины магазинов. Мне интересно взглянуть, что же там продается? Хочется заглянуть в каждое светящееся окно. Я начинаю плавно опускаться вниз, и Элька тоже со мной. Она влечет меня к одному из окон — оно скрыто за густой листвой дерева. Продираемся сквозь ветки — что же там такое, раз именно туда ведет Элька? О, да там сидит маленькая изящная балерина. Я знаю, это тоже картина Коровина. Называется «Балерина в своем будуаре». На столе стоят любимые темно-красные розы, нога балеринки неловко подвернута. Я еще на выставке обратил внимание на эту нарочито вывернутую ее ступню… Белое пышное балетное платье, руки сложены как у умирающего лебедя. Она очень внимательно слушает кого-то. Да это сам маэстро Коровин! Он стоит возле двери, элегантный, бородатый, осанистый. У Коровина лаковые блестящие штиблеты и легкий шарфик. Мы прислушиваемся: он говорит балерине: «Краски могут быть праздником глаза, как музыка — праздник слуха души… Глаза говорят вашей душе радость, наслаждение, краски, аккорды цветов, форм. Вот эту-то задачу я и поставил себе в декоративной живописи театра, балета и оперы. Мне хотелось, чтобы глаз зрителя тоже бы эстетически наслаждался, как ухо души — музыкой». Похоже, он слишком увлекся и даже не понимает, что балерине — воздушной, чуть глуповатой, — неинтересна его лекция. Ее рассеянный взгляд темных глаз блуждает, она отворачивает свою маленькую изящную головку от Коровина и глядит в окно… смотрит прямо на меня!
Я страшно пугаюсь. Она — тоже. Она видит за стеклом парня с рыжей девушкой, висящих в воздухе. Как я сейчас выгляжу, я даже не могу предположить, ведь во сне принимаешь самые разные обличья… Мы с Элькой срываемся с места, пока балерина не закричала. Мы бежим, бежим, прямо по воздуху, забыв, что можем легко лететь или даже просто стать невидимыми. Нас душит невыносимый смех. От смеха мы падаем — вниз — на скамейку. Начинается сильный дождь, каждая капля огромна, но мы не промокаем. Мы обнимаемся, и над нами раскрывается красный зонт. Губы Эльки так близко. Мы сидим под дождем на скамейке, неизвестно где — то ли в Париже, то ли в Сокольническом парке. Это совершенно не важно. Я целую Эльку в маленькое розовое ухо и говорю ей, что все будет хорошо, мы никогда не станем старыми, мы никогда не умр…

* * *
Когда у меня была Элька, я многое прощал миру. Его несовершенство как бы компенсировалось тем, что жизнь была наполнена любовью. Я хорошо по-мню, как был счастлив от того, что эта рыжая девчонка просто была. Где-то гоняла на мотоцикле, ела виноград, примеряла новые туфли. А Поппинс уже тогда начал страдать от несовершенного миро-устройства.
— Ты вот объясни мне, Севка. Когда мы с тобой стали такими? — Поппинс допивал вторую бутылку коньяка.
Моя смена уже закончилась, и я собирался домой; в офисе оставалась только уборщица Галя и охранник Тимофей. И тут неожиданно приехал Женька. Вообще днем он редко появлялся в клинике — у него было много других дел, связанных с разъездами по городу.
«Народный зуб» запускал рекламу на радио и в районной газете. Подумывали о том, чтобы пролезть на телевидение…Бизнес развивался. Клиент шел косяком, и Поппинс уже подумывал о том, чтобы повысить цены. У нас в стране не любят прибыль в десять или двадцать процентов. Надо — не меньше ста…
Виснадул потребовал прибавки к зарплате. Поппинс великодушно выплатил ему премию. И мне тоже. Я подумывал о том, чтобы взять в кредит машину. Мне хотелось возить Эльку на авто…
Так вот, приехал смурной Поппинс. Сказал, что был трудный день. Достал из своего директорского шкафчика коньяк.
— Конину будешь? По чуть-чуть…
По торжокской привычке коньяк Поппинс называл «кониной».
Мне пить не хотелось, но я понял: по дружбе надо разделить ношу. Поппинс нуждается в свободных ушах… Ему нужна поддержка и совет.
Так и оказалось.
— Когда мы стали такими? Мы — предатели. Мы бросили нашу родину.
— Жень, ну чего мы бросили… Живем на родине. Никуда не эмигрировали.
— Я не про Рашку… Я про наш Торжок. Ты по-мнишь, какая там малина, под Торжком? Мы ели ее прямо с куста. А как по Тверце идет весной лед. По-мнишь, Сев, как ты провалился в воду, а я тебя вытаскивал? Помнишь? Мы были маленькие, но были, бляха, уже мужикаааами. Мы умели дружить. Мы ели малину с куста…
Я хотел возразить, что это Поппинс провалился в ледяную воду ногой в валенке. А вытаскивал его как раз я… Но я понимал: не время спорить. Надо слушать и поддакивать. Поппинсу тяжело.
— И с Танькой — я с ней тоже стал предателем. Помнишь ту соску, Олеську… Ну, которая с ботинками приходила… Горячая оказалась! Любит меня. Того она…. Залетела… на аборт погнал, а что делать? Плакала Олеська. И Танька тоже плачет. Танька, бляха, жирная стала, и сиськи висят как уши у этого… спаниеля…
— Жень, ну, все перемелется… Мука будет, — сказал я и почувствовал себя древним дедом. Так, пожалуй, мог бы сказать какой-нибудь охранник Тимофей. Но никак не дипломированный специалист-ортодонт, спутник тонкой и звонкой японки — художницы Эльки…
Поппинс почувствовал фальшь моих слов. Ударил кулаком по столу. Звякнула посуда.
— Что ты понимаешь вообще, Клык! Все ковыряешься в этих гнилушках. Твои заработки — копейки, ты не жил широко, на яхтах не катался, ты не хотел летать к звездам. Поэтому вонючий рот — это твой удел. Никогда не стать тебе олигархом…. А я вот — хочу. У меня планы на жизнь. Не чета твоим….
Мне стало обидно.
— Ты, Поппинс, говори, да не заговаривайся. Без меня да Виськи (так мы звали Виснадула) хрен бы ты чего создал… Только и можешь что тереть да стрелки забивать… Всё, я пошел, у меня завтра смена утренняя.
Я поднялся из-за стола. Поппинс схватил меня за свитер, цепко держал, глядел в глаза, дышал тяжелым дыханием.
— Увидала жопа свет, да, Клык? Ипотеку, думаешь, выплатишь — и свободным станешь… Как бы не так. Из этого не вырваться. Будешь потом на двушку копить, потом на мебель, потом на машину… Потом дачный домик захочется… И вся жизнь, — вся, сука, жизнь, — на это уйдет. А помнишь, мы с тобой говорили, когда школу закончили: вернемся потом сюда! Вернулись? Фига! И не вернемся. Нет возврата. Мне мать написала, у нас больничку закрыли. Теперь надо в новый городок ездить… Как старикам жить, цены, бля, как в Москве! А малину помнишь? С куста ели…
Я оттолкнул Поппинса.
— Тебе бы проспаться, Жень.
Хлопнула дверь. Звякнули колокольчики.
Настроение было паршивое. Набрал Элькин номер. Вежливый голос сказал мне, что «абонент не абонент».Где она шляется, Элька… Сердце сдавило тоской. Смертельно захотелось малины. Надо будет домой съездить… можно же на выходные вырваться. До Торжка от Москвы всего-то двести километров.
Рано-рано утром, еще были серые предрассветные сумерки, раздался телефонный звонок. Элька? Нашлась пропажа? Я схватил трубку.
— Ты… это… не обижайся, Сев. Я там что-то тебе вчера по синей дыне наболтал. Дурак я. Прости. Скажи там Гальке, чтобы убрала… А то я насвинил вчера, — это был Поппинс.
Я отключил телефон.
* * *
ОСОЗНАНКА ВОСЬМАЯ
Крым наш!
Теперь я знаю точно: на осознанное сновидение надо настроиться, навести навигатор. Поскольку перед сном я вспоминал тот печальный день, когда Поппинс нажрался в грязь, мое сегодняшнее О.С.связано именно с ним.
Начну по порядку.
Вначале дорога. На нее я попадаю каждый раз, ко-гда захожу в О.С. Сокол объяснил, что это — мои «Первые ворота», место, где я ощущаю себя в другом измерении. Сейчас дорога не пыльная, как когда-то, она движется, подобно ленте эскалатора. Я смотрю на свои руки — удерживаю себя в сновидении. Вдруг понимаю, что дорога это на самом деле река. Только я не проваливаюсь в воду, как было бы наяву, а просто движусь вместе с водой. Тогда я успокаиваюсь, ложусь на спину и смотрю на небо. Сегодня на нем ни облаков, ни аэростатов, ни паутинок. Просто чистое небо. Река быстро расширяется, она была как дорога, а теперь уже не видно берегов. Это, наверное, уже и не река вовсе, а море. Летают чайки. Дело в том, что на море я ни разу еще не был. Поэтому представляю его таким, каким видел на фотографиях и в кино. Слишком условным. Обязательно чайки и пароходики… Кстати! Прямо на меня движется пароход, как в фильме «Жестокий романс». Из трубы валит дым. На палубе стоит Паратов–Михалков с усами, за руку держит красавицу Ларису. Правда, она уже не та, что снималась в фильме, а ведущая из популярной передачи про то, как женихи ищут невест. Рядом стоит рыжая сваха в очках и показывает на меня пальцем в белой перчатке. Прямо на перчатку надет перстень с огромным камнем, он отбрасывает на меня луч, как лазерная указка. Я думаю, что выгляжу нелепо — лежу на спине раскинув руки, как морская звезда. И сваха, скорее всего, смеется надо мной. Тогда я показываю класс: взлетаю из положения «лежа» прямо на палубу! Но там уже нет ни Паратова с Ларисой, ни свахи с перстнем. Там толпа народа — матросы в бескозырках, дети в пионерских галстуках, какие-то буфетчицы в крахмальных наколках на волосах, — такие были в пятидесятые годы. Все очень радостные. Они что-то хором кричат, я прислушиваюсь и понимаю, что они кричат: «Крым наш!» Мне тоже становится легко и радостно. Как хорошо, когда что-то становится твоим. О, это сладкое чувство обладания!
Ко мне подбегает Поппинс. В руках он держит огромную дыню-колхозницу, прямо пальцем отрезает толстые куски и раздает всем. Пионеры выстраиваются в очередь. Но Поппинс их отстраняет и дает кусок дыни мне — ведь я его лучший друг, а не все эти люди! Поппинс объясняет мне: «Пионеры едут в Артек!» И тоже наделяет их дыней. Она все не кончается и не кончается, и это правильно: хорошего должно быть много!
Я ищу глазами Эльку, здесь слишком шумно, а она не любит шум. Я начинаю испытывать тревогу. Я пытаюсь закричать и позвать ее, но меня вдруг охватывает странное оцепенение, похожее на паралич, — не могу двинуть ни рукой, ни ногой. И не могу взлететь над всей этой толпой. А пионеры бегут и бегут за халявной поппинсовской дыней, они наступают мне на ноги, потом сбивают с ног… Они скандируют «Крым наш!», и я вижу, что зубы у них у всех кривые-кривые. Куда хуже, чем были у меня в детстве. Кто их исправит, если они меня затопчут, как стадо слонов? Я в ужасе — не могу пошевельнуться даже. Они же меня растопчут, эти пионеры… А Поппинс, похоже, про меня забыл. Я просыпаюсь.
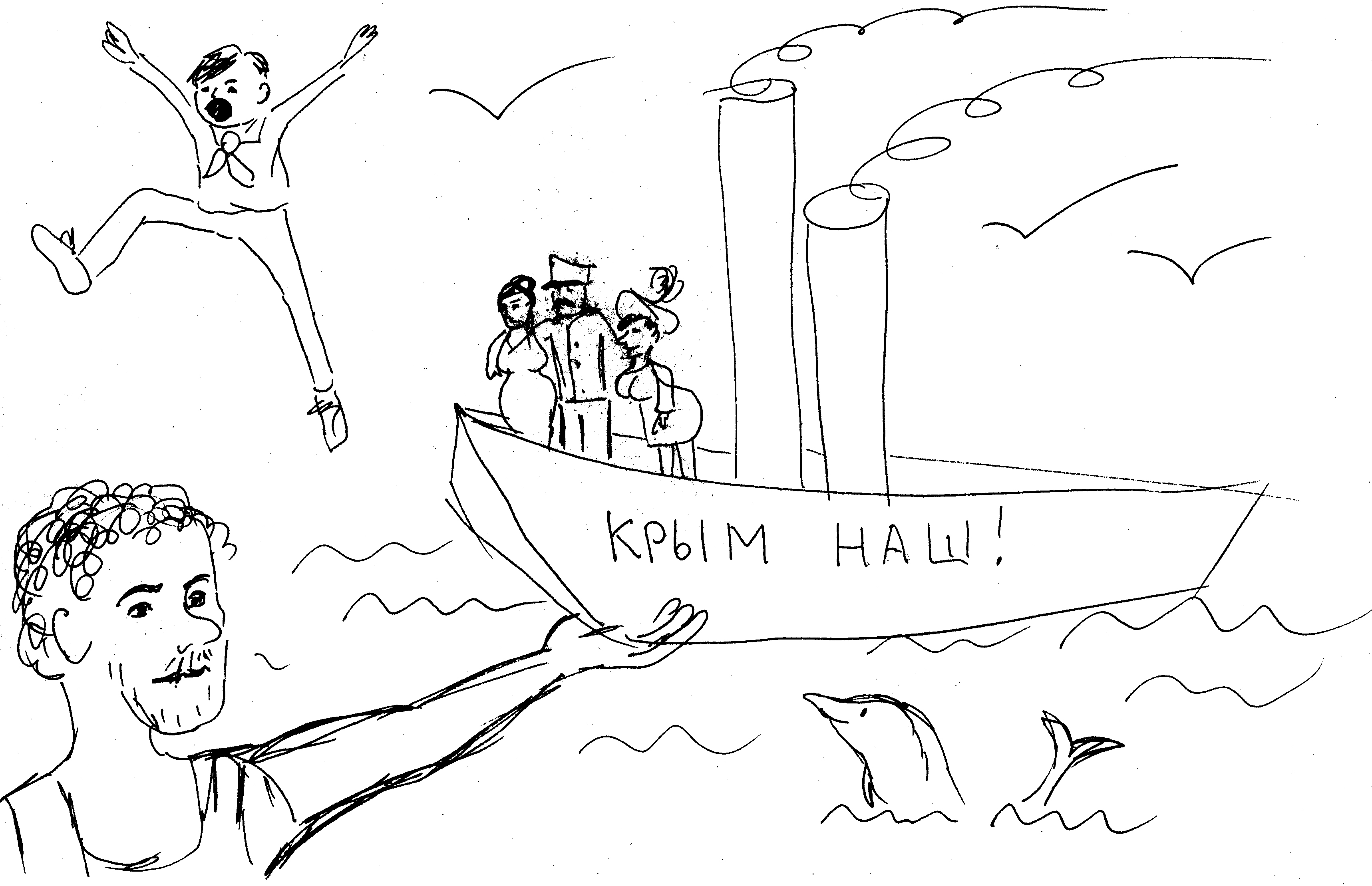
* * *
Сокол объяснил мне, это был так называемый «сонный паралич» — вещь в общем-то обыкновенная для осознанного сновидения. Когда вдруг ты теряешь свои потрясающие возможности летать, перемещаться в пространстве. Не можешь вообще ничего. И испытываешь подлинный ужас. Главное — ты перестаешь понимать, что ты во сне и в принципе самое страшное, что может произойти с тобой — ты проснешься в своей постели, «наложивши кирпич от страха». Так сказал «Сокол».
Сонный паралич — это обычный кошмар, который знает каждый человек, но усиленный осязательными и слуховыми ощущениями. Паралич во сне, объяснил «Сокол», — это защитный клапан организма, разработанный эволюцией, это предохранитель от лунатизма. Но испытанный ужас залипает в мозгу надолго…
* * *
Был май месяц. Самый мой любимый. Природа свежая, зелень яркая. Сирень и тюльпаны.
На майские праздники поехали с Марусей в Торжок. Я хотел познакомить ее со своими родителями. Показать места своего детства.
Маруся лихо вела маленький уютный автомобиль — «Ниссан Жук». Дамская машинка, действительно похожая на яркую божью коровку. Взяли с собой всяких вкусностей. Тортик «Графские развалины», нарезок, две бутылки вина — красное и белое. «Какое вино пьют твои родители?» — спросила Маруся.
Я хотел ей ответить, что они в основном пьют бражку и еще — настойку ягод на спирту. Но потом постеснялся… Не надо шокировать мою нежную девочку.
Мама готовилась к нашему приезду. Я приезжал к родителям так редко… А они ведь жили только от одного моего визита до другого. Им казалось: сын их стал большим человеком, живет в самой Москве! Соседи качали головами, цокали. Главное было — вырваться…
Вырваться — значило преодолеть матрицу. Попасть в правильную жизнь. И там уже строить по-новому, по-настоящему. В сущности, все мы стараемся всю жизнь вырваться, или, чтобы было понятнее, перейти на другой уровень. Как в квесте. Ходишь в школу — хочешь поступить в институт, и не какой-нибудь областной, а обязательно в центральный. Живешь в деревне — стремишься в районный центр. Из районного центра в Москву. А если кто живет в Москве, то, говорят, с молодых ногтей мечтает уехать за гранцу. Потому что — другой уровень. Квест. Вырвался, преодолел, и для всех знакомых ты в дамках. Смог! Значит, ты молодец и чего-то стоишь.
Хотя многие и не знают, зачем так куда-то стремятся из родных мест? Можно родиться в деревне и быть там вполне себе счастливым комбайнером. А кому-то свезло родиться сразу в Москве — значит, ты уже изначально на том, высоком, уровне. Куда другие только стремились. Попадали не все.
Я — попал. И Поппинс.
Казалось, что если человек живет в Москве, то он там не меньше чем помощник президента. Родители смотрели телевизор — новости, — думали увидеть там меня. Хоть мельком.
Я привел Марусю в отчий дом.
* * *
Дом моего детства — квартира в пятиэтажке на первом этаже. По деревенской привычке, родители разбивали небольшой «огородик» во дворе за домом. Сама пятиэтажка в восьмидесятые годы казалась шикарной. В Торжке тоже хотелось урбанизации — жить в многоэтажке с горячей водой. Дом когда-то был белым и нарядным. Сейчас он грязный, неопределенного цвета, с выразительными межпанельными швами, закрашенными темно-серым… На подъездной двери нарисована яркими красками детская картинка: ежик с корзиной яблок. Ежик непропорциональный и страшненький, но все равно милый. И клумба перед подъездом симпатичная. Весной на ней цветут тюльпаны, а осенью — георгины. Это соседки сажают. В качестве ограды на клумбе торчат вкопанные до середины автомобильные шины: почему-то в провинции любят такие вот дизайнерские находки. Да толстые, всех мастей, кошки сидят перед домом моего детства. Рыжий кот — точь-в-точь Мейсон, который жил у моих родителей в девяностые годы. Тогда показывали сериал «Санта-Барбара», где был персонаж по имени Мейсон. Вот моя мама и назвала так нахального самоуверенного кота. Я думаю, что этот рыжий какой-нибудь его внучатый племянник. Уж больно похож…
Все соседи моментально прилипают к окошкам, когда Маруся ловко паркует машинку. Мне приятно, что и говорить. Я вернулся домой победителем. Атрибуты удачи — дорогая машина, красивая модная девушка, большие сумки с продуктами. Соседи, конечно, уже запеленговали и горлышки бутылок, и зеленую верхушку спелого ананаса, торчащие из пакета. Я словно вижу себя со стороны, и я доволен увиденным. Потому что я моложав и строен, и я, что называется, состоялся. Как лягушонок, вернувшийся в свое болото, я чувствую, как меня окутывает приятное вонючее тепло. Да, да. Может, это и коряво звучит — вонючее тепло, но как по-другому назвать маленькую пыльную улочку, и клумбу в окружении автомобильных шин, и дом неопределенного цвета, где на балкончиках вывешено белье… Но главное, что я — радостный лягушонок. Мне приятно сюда вернуться, и именно так вот я мечтал вернуться. И хочется поделиться своей радостью с Марусей. Объяснить ей: вот здесь прошло мое детство, и под этой старой липой мы играли в футбол, а вот с этой качелины я когда-то навернулся, потому что качался стоя на ногах. Упал, начал подниматься. А она мне как даст по затылку…
Маруся смотрит на меня со снисходительной улыбкой. Какая она все-таки красивая, моя невеста! Как будто сошла с обложки модного журнала. Красота у Маруси не искусственная, когда накачанные губы и нарощенные ресницы. Нет, все натуральное. И золотистый блонд, и свежий цвет лица. Вся она ладненькая и не пошлая.
— Севка, ты, что ль? — из окна высовывается голова соседки тети Тамары.
Голова вся в бигудях — такая вот торжокская мода, ничего не поделаешь. Все женщины, находясь дома, ходят в халатах и волосы накручивают на бигуди. Когда приезжает автолавка с хлебом или с молоком, женщины выбегают на улицу прямо в домашних тапках, не переобуваясь в уличную обувь. Так принято. Даже поздней осенью, — только накидывают на плечи, поверх халатика, куртку. И, неизменно, в тапочках бегут становиться в очередь.
— Я, теть Том! — отвечаю. — Вот, приехал…
Хотя это и так понятно. Вот, приехал! Возвращение блудного сына.
Родители, конечно, знали, что я приеду, и не один, а с невестой. Волновались, готовились. Это я понял сразу, как только распахнулась входная дверь — еще до того, как я успел нажать дверной звонок. Отец широко улыбался. С профессиональным стыдом я моментально оценил его зубы на тройку с минусом: кривые и черные, где-то в глубине поблескивает золото… На отце был его единственный пиджак, который я помнил с самого далекого детства. Пиджак коричневого цвета, местами сильно залоснился. Отец шутил: зачем мне, простому мужику, много пиджаков? Хватит и одного. Купил его на свадьбу, потом надевал несколько раз, когда ходил ко мне на родительские собрания, один раз — когда вручали какую-то производственную грамоту. Отец говорил, что и хоронить его надо в этом же пиджаке. И сейчас, для торжественности момента, надел любимый пиджак. Поверх светлой застиранной водолазки. Черные широкие брюки и белые носки — шик девяностых. Тапки-сланцы. Я почувствовал кожей, как Маруся все это заметила за одну секунду. Похолодел… Но Маруся удар выдержала и вот уже протягивала отцу торт и чирикала о том, как быстро и легко мы доехали и какой все-таки Торжок замечательный городок.
Так и сказала: «замечательный городок». И отец перестал напрягаться. Обнял меня. Крикнул: «Мать, что ты там возишься! Приехал сын!»
И мама тут же выкатилась в тесный коридорчик, маленькая, кругленькая. В цветастом платье, вытирает руки о передник. Мамочка моя! Я увидел, что она стала совсем седая — но все равно кудрявая. Наверное, только-только сняла свои бигуди… Лицо у мамы свежее и круглое, румяное. Бровей почти нет — она их рисует, вот и сегодня нарисовала две забавные запятые.
— Ну, где наша невестушка? — говорит мама. Сразу с места в карьер.
И уже обнимает Марусю. А Маруся высокая, выше мамы на целую голову! Но мама, тем не менее, целует ее куда-то в область шеи и говорит явно заготовленную фразу:
— Я надеюсь, что ты будешь мне не невесткой, а дочкой!
Они обе плачут, мама и Маруся. И отец смущенно говорит:
— Ну, хватит уже, мать! Развела сырость!..
И шаркает своими тапочками на кухню. Оттуда сладко пахнет пирожками. Мамины пирожки, как долго я их не ел.
После радостной толкотни в коридорчике мы приглашаемся в комнату. Залу, как называют ее родители. Я смотрю на привычную обстановку как бы заново, Марусиными глазами. И вижу старую полированную стенку, за стеклами которой стоят самые разные артефакты. Вазы — хрусталь и стекло, тяжелые лафетники, пара флакончиков с лаком для ногтей, какие-то камни. Камни лежат перед рядами книг. Наша библиотека — предмет вечной гордости моих родителей. Там есть и собрания сочинений русских классиков, и Агата Кристи, и романы про Анжелику, и энциклопедия про космос… Сейчас, конечно, никто эти книги не читает. Но я знаю, что родители не расстанутся со своей «библиотекой» ни за какие сокровища мира. Потому что мы, русские, самая читающая нация. Так всегда говорил мой отец, а мама согласно кивала. И в том, что за стеклянной полкой старой полировки хранится бесценный книжный груз, наполняло особым смыслом и нашу пыльную пятиэтажку, и сам маленький Торжок.
Еще за стеклом были втиснуты фотографии, в основном мои. И те самые стихи, о которых я уже неоднократно упоминал. И какие-то мои детские рисунки — в основном карандашом, но были и акварельные зарисовки. Портрет кота Мейсона. Коровье стадо, пасущееся на берегу реки. Танковый бой. Небогатое художественное портфолио, но с какой бережностью моя мама хранит этот мой «архив»! Снова защипало глаза.
— Ребята, давайте к столу! — Отец потирал ладони.
Маруся обходила комнату, внимательно разглядывая обстановку. Понятно, что ничего особенного. На стене, конечно, ковер. На полу — стоптанные дорожки. Круглый стол, его собирали только по праздникам. Голубые занавесочки, на подоконниках герани и фикусы. На стенах в рамках висят мамины вышивки. Моя мама знатная вышивальщица: по клеточкам болгарским крестом создает целые картины, в основном на цветочную тематику. Ее увлечение вышивкой началось еще в годы моей учебы в школе, а теперь, я вижу, приобрело неконтролируемые масштабы.
— Очень успокаивает, — пояснила мама, проследив мой взгляд.
На столе уже накрыто: селедка под шубой, винегрет, соленые огурцы и грибы. Два графинчика: поменьше — с наливкой, побольше — с морсом. Мама принесла картошку в кастрюле, из кастрюли валил густой пар. Разложили картошку. Появился противень с мясом с грибами под сыром. Я знаю, что это фирменное блюдо моей мамы — она называет его «Мясо по-французски», но откуда взялось такое название в Торжке — ума не приложу.
— О, Зая, ты должна это обязательно попробовать! Это мясо по-торжокски. Праздничное блюдо моего детства!
Маруся вяло ковыряется в тарелке. Я знаю, почему она расстроена. Ведь картошка с мясом — это запретная пища любой красотки. Нарушение принципа раздельного питания. Конфликт белков и углеводов. А не съесть — значит обидеть хозяйку, потенциальную свекровь!
— Очень вкусно! — говорит Маруся. — А какие это грибы, шампиньоны?
— Ну что вы! Это самые настоящие лесные грибы! Отец осенью собирал, — оживляется мама.
— Морсику налить? — подхватывает отец. — Это клюквенный, тоже с осени клюкву морозили…
Какие они хорошие, родные мои. Угощают, стараются. И Маруська хорошая, молодец. Хвалит и огурцы, и селедку под шубой, хотя я знаю, что все это «не ее пища». Маруся любит суши, морепродукты. Чуть-чуть фруктов, маленькое пирожное. Кофе капучино с корицей. Горькую шоколадочку.
И наливку отцову она пить не стала, открыли вино, которое привезли из Москвы. Я заметил, что мама проворно убрала в холодильник колбасные нарезки, которые мы купили. Наверное, потом будет их раздаривать соседям — привет от благополучного сына. Я не обижаюсь на маму. Наоборот, мне кажется, что такая домовитость очень милая.
— А что это за стихи? — спрашивает Маруся.
— Ой, это Севочка написал! Он вообще такой талантливый! — Мама просто захлебывается гордостью за сына.
— Сева, а ты помнишь еще стихи писал… У меня тетрадка была где-то… — Я напрягаюсь. Сейчас пойдет еще искать эту тетрадку…. Ох уж мама.
И действительно, мама вылезает из-за стола (неловко зацепляет скатерть, падает вилка на пол).
— Вилка упала — значит, кто-то придет! — пытается сгладить ситуацию отец.
— Упала вилка — и давай валяться! — неловко шучу я.
Мама открывает шкаф-полироль. Чего там только нет! Маруся вытягивает трогательную шейку, заглядывает через мое плечо в шкаф. Какие-то клубки шерсти и вязальные спицы, бюст Ленина, маленькие войлочные валеночки. Свернутые рулоном рисунки и большие листы миллиметровки — они остались с тех времен, когда мама сама шила и на миллиметровках рисовала по клеточкам мудреные выкройки.
— Мам, а что это за валенки? — спрашиваю я.
— Севочка, это ж твои валеночки! Неужели ты забыл? — Мама действительно удивлена.
И тут же начинает рассказ, как я во втором классе прыгал в этих вот валеночках с крыши сараюшки в глубокий снег, а валенки и соскочили с ног! И остались в глубоком снегу. Домой прибежал босиком — в носках. А валеночки потом с отцом еле достали.
А я и не помню. Помню только, что снег зимой в Торжке был удивительным: голубым и розовым. А когда подтает, то там были просто какие-то снежные царства, в которых угадывались и очертания волшебных замков, и короны королев, и ледяные деревья…
Может быть, от выпитой наливочки, а может, от нахлынувших воспоминаний, от знакомого запаха родного дома (сыростью и пирожками и чуть-чуть штукатуркой) мне кажется, что я сейчас заплачу.
И мама вдруг находит наконец-то тетрадку с моими детскими стихами и альбом со школьными фотографиями. Мама открывает тетрадь где-то на середине и начинает с выражением читать:
Когда мороз кричит,
Лицо мне обжигая,
Я представляю себя летом
С кружкой чая.
Я представляю,
Как кричит мороз,
Когда плюс сорок
Обещает мне прогноз.
Я удивительно хочу
Увидеть осень,
Весной её я встретить
Буду рад.
Меня воображение уносит
В прекрасный желто-красный
Листопад.
А осенью листва опала,
Мне захотелось вновь весну.
Представлю,
Как ручьи дороги моют,
Глаза закрою
И усну.
— Севочка написал это стихотворение в восьмом классе! — с гордостью говорит мама. И я вижу, что для нее очень важны эти строки. Она смотрит на Марусю и ждет, что та тоже будет восхищаться тем, что Севочка уже в детстве подавал надежды… Севочка такой талантливый!
— Котик, а как кричит мороз? — спрашивает Маруся и смеется.
Отец темнеет лицом. Я вижу, что он уже прикончил, практически в одиночку, свою наливочку. Он делает характерный жест для матери: добавь в графин!
Мать качает головой.
Я понимаю их диалог. «Надо добавить! — Ну и горазд ты пить, дорогой! — Ты что говоришь, женщина, сегодня такой праздник. Сын приехал!»
Мама со вздохом выходит на кухню, возвращается с полным графином.
— Мать, прочитай еще тот стих… Ну, ты знаешь… Про русских… — просит отец.
Я-то уже и не помню таких стихов! Как они, оказывается, берегут все, связанное со мной. И эти вот полудетские стихи. В Торжке идет какая-то своя жизнь, в другом темпе. Мне кажется, что жизнь московская и торжокская не пересекаются. Они будто текут в разных измерениях. Торжок населен призраками прошлого. Детскими стихами из старой тетрадки…
В колеса палки не надо вставлять —
Поломаются напрочь они.
Одному суждено отправлять
В бесконечность надежд корабли.
И не важно — совсем не боюсь
То, что будет — не страшно совсем
Перед Богом — я не помолюсь,
Страх на честь — недостойный обмен.
Несмотря ни на что, я готов!
Пусть сердца вразнобой наши бьются,
Я готов разорвать сто оков,
Ведь я русский — они не сдаются.
Мама читает эти строки так важно и серьезно, как будто их написал Пастернак. Забежал к ним на чашку чаю и накропал стишок…
Отец не скрывает своей гордости за сына.
— «Ведь я русский — они не сдаются!» — значимо повторяет он. — Ну, сын, расскажи, как ты там, в Москве? Скажи главное, сын. Ты счастлив?
— Пап, ну что ты начинаешь, — пытаюсь я снизить пафос нашей встречи.
Как ответить — счастлив ли ты? Счастье — это так глобально. Я бываю счастлив с Марусей. Был счастлив в той осознанке с Элькой, когда мы двумя сочными вишнями висели на дереве. Бываю счастлив, когда погашаю очередной взнос за ипотеку… Да, да. Все так. Просто есть счастье глобальное, когда «ведь я русский, они не сдаются». А бывает и маленькое, прозаичное счастье. Когда вкусная еда и мягкая постель, и девушка рядом пахнет тонко и празднично.
Что, не так?
Маруся вышла из-за стола и разглядывает фотографии, которые показывает ей мама. Я вижу, что ей неинтересно… Однообразные школьные фото, у каждого есть такие. Год выпуска, в овалах — ученики и учителя, посередине классный руководитель и директор Терентьич с завучем. На протяжении десяти школьных лет Терентьич не меняется, а классные руководители почти каждый год разные.
— А вот — посмотрите, Машенька! Женька. Лучший друг Севочки. Ой, они тогда чего учудили… — Мама готова заплакать.
И называет Марусю «Машенькой», так мило…
Маруся, я вижу, отходит в сторону и делает селфи на фоне ковра, висящего на стене. Ну, конечно, это такой стеб. Потом беззвучно шевелит губами, выбирая из списка, кому отправить фотку… Милая, кому ты шлешь свою мордочку на фоне ковра? Я знаю, что эти ковры — немодно и по-совковому. Но это мой быт… Уж извини. Потом Маруся фотографирует украдкой чайный гриб в большой трехлитровой банке на окне. Я смотрю на родной дом ее глазами столичной красотки и понимаю, что многое можно здесь сфотографировать для того, чтобы друзья «чисто поржали». Мне становится горько и обидно…
Не за себя. За родителей, которые встретили меня и Марусю с такой чистой, открытой душой.
* * *
Все-таки вилка упала не случайно. Как ружье, которое висит на стене в первом акте, в третьем обязательно выстрелит, — так же и упавшая в начале застолья вилка призовет на огонек любознательную соседку.
И вот уже Тамара, тетя Тома, дружелюбно свешивающаяся из окна в момент нашего с Марусей приезда, усаживается за стол. А с ней — дочка Зойка, старше меня на два года, по торжокским меркам — перестарок. Зойка копия Тамары, только помоложе. Такое же широкое курносое лицо и бойкие кудри, большая грудь и маленькие голубые глазки.
Понятно, пришли поглазеть на меня и невесту.
Зойка сразу с места в карьер кидается обнимать меня. Что за отвратительная фамильярность!
— Севун, как не расставались с тобой! — жарко шепчет она мне в ухо и мажет своей помадой. Можно подумать, что нас что-то связывает.
Тамара загадочно улыбается. Связывает! Так и дает она понять моей Зайке.
— Севка, а ты помнишь, как вы с Зойкой голыми бегали в малине? — спрашивает она.
Я не помню.
Моя мама пытается спасти ситуацию.
— Севочке тогда было три года! А Зойке пять.
— А чем вы, Зоя, занимаетесь? — спрашивает вежливая Маруся. Ее пикантными воспоминаниями не сбить.
— Я хотела по модельной части пойти, — отвечает жирная Зойка. — Но потом пошла на местную золотошвейку.
Я объясняю Марусе, что это такой местный промысел — торжокское золотое шитье. И есть даже фабрика торжокских золотошвей.
— Ой, это так интересно! Знаете, сейчас хэндмейд очень в тренде, — оживляется Маруся. — И Юдашкин использует, и Слава Зайцев в своих коллекциях… Знаете, у Юдашкина есть серия — «Пасхальное яйцо», там модели в сарафанах, стилизованных под пасхальные яйца…
— Гыыыыы! Под яйца — это круто, — ржет Зойка и зазывно смотрит на меня.
Ужас какой! Мне кажется, что Зойка старше меня не на два года, а на две жизни. Я-то позиционирую себя как молодого человека, а тут такая бабища. Глаза в синем муаре.
— Котик, а вы в одной школе с Зоей учились? — спрашивает Маруся.
Я хочу ответить, но Зойка меня перебивает:
— А чего ты его котиком зовешь, он тебе что, в ботинки нассал, что ль?
Зойка и тетя Тамара хохочут. Тамара уже хорошо вмазала, я вижу. Маруся краснеет.
— Мам, мы пойдем с Марусей погуляем, — -быстро говорю я. — Я ей хочу Торжок показать. И школу.
Мама пытается возразить, но я хватаю любимую за руку и вывожу из-за стола. Мне кажется, Маруся вздыхает с облегчением. Мы одеваемся в крошечной прихожей, и все женщины вышли нас проводить. Отец уже прикорнул в маленькой комнате на диване. Перебрал… «Сошел с дистанции», — шепотом поясняю я Марусе.
— Тут где-то мои лоферы были, — ищет Маруся свои лаковые ботиночки на низком каблуке.
— Лохеры? — переспрашивает Зойка, и они с Тамарой вновь взрываются хохотом.
Мы выскакиваем за дверь.
— Вам как стелить-то, вместе или порознь? — кричит нам вслед мама.
* * *
Как показать любимой город своего детства, как рассказать о нем? Мне хочется говорить о Торжке поэтично и возвышенно. Но я понимаю, что надо выбрать какую-то другую тональность. Вряд ли она, утонченная и начитанная, оценит высокий клен, на котором повесился друг моего отца дядя Семен. Повесился по пьяной лавочке. А клен до сих пор растет и осенью бывает совершенно золотым.
Или — бюст Пушкина, вокруг него организовано круговое движение. Мне всегда казалось, что круговерть машин вокруг головы Александра Сергеевича символизирует Солнечную систему, где поэт является ее центром, Солнцем. А мы все вращаемся вокруг него. В день рождения Пушкина, 6 июня, обязательно там устраиваются народные гулянья, и городской глава, открывая праздник, зачитывает слова по бумажке. Потом играет духовой оркестр, школьники читают речевки. Потом обязательно выступление народных ансамблей.
День рождения Пушкина в Торжке — главный праздник.
И к его памятнику на протяжении всего года приезжают по субботам невесты в белых платьях и возлагают ему сезонные цветы.
А пока я веду Марусю к своей школе: может быть, встречу кого-нибудь из своих? Мне хотелось бы показать свою красивую девушку.
Маруся что-то молчалива.
— Красавица моя, что ты приуныла? — Я пытаюсь приобнять ее за худенькие плечики.
Но Маруся вдруг скидывает мою руку и зло откидывает прядь длинных волос.
— Что у тебя с ней было? — спрашивает она сквозь зубы.
— Любимая! С кем — с ней?
— С ней! С этой жирдяйкой! С Зойкой!
Ну, знаете ли… Как такое можно вообще предположить?
— Зайка, хорошая моя, ну что у меня может быть с Зойкой? Это просто знакомая. Дочка соседки тети Тамары…
— Рассказывай мне больше, ладно? Сказочник! Ганс Христиан! Я видела, как она зырит на тебя. И эти намеки… Пришла со своей мамашей поржать надо мной. Лохеры! — Мы одновременно смотрим на лаковые ботиночки Маруси. Да, запылились они от торжокской дороги…
— Ничего не было с Зойкой, клянусь… — Я правда расстроен. Пожалуй, это первая наша ссора. К тому же мне неприятно видеть Марусю такой — разъяренной. Как-то непривычно.
— Марусь, ну что ты. Такие люди. Понимаешь? Не Москва.
— Да уж, вижу, что не Москва. И школу твою я смотреть не хочу. Своди меня лучше куда-нибудь в бар. Здесь, надеюсь, есть приличный бар? — смотрит на меня с вызовом.
Бар есть, да. При гостинице «Миф». Гостиница относительно новая, — по всему Торжку висят рекламные плакаты, которые говорят, что «Миф» — это гостиница нового образца и сам Пушкин, дескать, был бы счастлив в ней остановиться… Но я-то знаю, что деревянные домики, гордо именуемые «коттеджами», больше похожи на строительные бытовки с деревянной грубой мебелью. Зато на территории «Мифа» вырыты пруды, где можно половить карасей на удочку.
Есть там и банька, есть и кафе. Кафе среди торжокской молодежи модное, двухэтажное. На первом этаже — гардероб, выложенный кафелем сортир и даже зимний сад. На втором — приятная затемненная обстановка, большие деревянные столы, барная стойка… Короче, все не хуже, чем в Москве. Бывает и живая музыка. Сегодня выходной — значит, должна быть.
В баре на Марусю сразу смотрят немногочисленные посетители. Я испытываю сложное чувство — гордость напополам с раздражением. Ведь понимаю, что Маруся редкая бабочка, которая как-то случайно залетела в маленький городок. И очаровывает, очаровывает. А с другой стороны, бабочка-то моя. И золотистая пыльца на крыльях тоже моя. Любуйтесь! Завидуйте!
Мы гордо проходим к столику возле окна. Официантка в народном костюме, почему-то — немецком дирндле, — приносит меню. Официантка (на бейджике надпись: «Тоня») плотненькая. Крепкие ножки, румяные щеки-яблоки. Небольшие голубые глазки. Надо сказать, в Тверской области распространен Тонин типаж. У меня полкласса было таких — плотненьких, краснощеких, голубоглазых.
Маруся сразу заказывает себе чашку капучино.
— И пожалуйста, вместо корицы добавьте шоколада, — говорит она с видом завсегдатая баров.
Я беру бокал красного вина — хоть и знаю, что в Торжке хорошего вина не отыщешь… Просто хочется снять напряжение после встречи с родными. Знакомство как-то не очень удачно прошло, мне кажется. Я бы взял себе чего покрепче, но не хочется позориться перед чистенькой Марусей.
Потом заказываем горячее, хотя есть, после домашнего стола, и не хочется. Маруся какие-то баклажаны с сыром. Я блинчики с грибами.
— Грибы местные? — спрашиваю у Тони, просто чтобы обозначиться.
— Канэшна! — радостно отзывается она. — У нас шампинёнов не бывает. Только лесные. Осенью у населения закупаем.
Маруся морщится на «канэшна» и «шампинёны». Как будто в Москве официанты никогда не коверкают слова…
Мне становится грустно. Все как-то изменилось вокруг. Нет радости. Как в анекдоте: новый русский купил маленький цирк, а потом принес сдавать его обратно в магазин. Ему говорят: что, клоуны не хохмят? Акробаты не делают трюки? Фокусники фокусы не показывают? Он отвечает: хохмят, трюкачат, фокусничают. А в чем тогда дело, что не так? — Радости нет.
Вот и здесь. Радости нет, хотя и Тверца по-преж-нему шумит и блестит на солнце, и отчий дом пахнет пирогами. Может, потому, что я смотрю на свой Торжок Марусиными глазами? И вижу, как в кривом зеркале, одну только пыль, грязь и невежество? Но почему я не могу показать ей красивое? Оно же есть…
И еще мне интересно, — как бы увидела мой Торжок Элька? Если бы я тогда набрался смелости и привез ее сюда. А теперь я никогда не узнаю.
Мне кажется, Элька бы хохотала вместе с толстой Зойкой и нашла бы общий язык с моими родителями. И крикнула бы моей маме: «Стелить нам с Всеволодькой вместе!» И уж конечно, ей были бы интересны мои детские стихи. Хотя Элька была резкая и порой грубоватая, но — настоящая. И ей нравились все настоящие проявления жизни. Даже и такие вот, пыльные и провинциальные. Ковер на стене и бигуди на голове. Над этим можно смеяться. А можно умилиться.
— Марусь, а ты знаешь, здесь поблизости деревня Прутня. Там могила Керн… Может, съездим поглядим? — Я беру любимую за руку.
Она по-прежнему дуется, но уже не так яростно. Я вижу, что уже хочет мириться. Просто надо сделать ей шаг навстречу. Она же, в сущности, еще совсем маленькая.
— Керн, это которая «Я помню чудное мгновенье»? — идет на контакт Маруся. Тоже делает мне навстречу шаг. Шажок.
— Да! Но с Пушкиным она была совсем недолго, красавица Анна Петровна Керн. А потом у нее была еще долгая-долгая жизнь. И любови были, и увлечения. Она вышла замуж в итоге за молодого щелкопера, моложе ее на двадцать лет. Неудачника. Продавала письма Пушкина, чтобы содержать молодого мужа. Любила! Родила даже от него. И двадцать лет была счастлива. Свет ее, конечно, осуждал. А она любила. Он умер и был похоронен в селе Прямухино — здесь есть такое неподалеку. И Керн хотела после смерти покоиться рядом с ним. Туда-то ее и -везли, но по тверским дорогам, — была распутица, — не довезли. Похоронили в Прутне.
— Грустная история. — Маруся уже улыбается. — Да, давай съездим к Керн. Она, в некотором смысле, сама памятник любви. Хотя я не одобряю, если женщина старше мужчины. Это как-то неправильно.
Тем временем собирается местный бомонд. Молодые мужики в трениках. Все незнакомые. Они моложе меня, но выглядят лет на десять старше. Наверное, когда я уехал из Торжка учиться в Москву, они еще ходили в младшую школу. Сейчас выглядят как бодливые молодые бычки: стриженые затылки, оттопыренные уши, вызывающий взгляд голубых глаз. Ох уж порода. Никуда от нее… Похожи на братьев. И одеты тоже одинаково. В треники, кроссовки и рубашки-поло. С ними женщины; так и хочется воскликнуть: «Они прекрасны!» Но это было бы неправдой. Они вульгарны. И уже «ужаленные». Это тоже торжокский сленг. Ужаленный — значит «чуть-чуть выпивший». Для куража. Не в «свинотень». «Свинотень» — это одна из заключительных стадий.
— А еще, знаешь, очень странная история. Когда Керн везли хоронить, на дороге она повстречалась с Пушкиным. Не с самим Пушкиным, а с его памятником. Они встретились на разбитой, грязной дороге. Такое вот последнее свидание поэта с его большой любовью.
— Ну ладно, с большой любовью, скажешь тоже! — возражает Маруся. — У него таких любовей было воз и маленькая тележка. Трахал все, что движется.
Я морщусь. Все-таки некоторые фразы из нежных уст моей любимой звучат просто чудовищно.
Она чувствует смену моего настроения. Сразу становится ласковой кошечкой.
— Поцелуй свою зайку, — говорит она. Вытягивает губы уточкой.
Потом достает смартфон и делает селфи — на фоне братков. Я напрягаюсь… Братки смотрят неодобрительно, но вроде обходится…
Тоня в немецком дирндле приносит большие тарелки с едой. Хотя еды-то немного. Что там, всего лишь баклажаны да блинчики. Вот братки (я краем глаза слежу за ними) заказали целого поросенка. Наверное, заранее заказали, может, и за день. Что-то быстро принесли. Поросенок как в известном советском фильме Александрова: лежит себе, румяный, в окружении разносолов. Кажется, если ткнуть его в бок вилкой, он заверещит и побежит по столу.
Но бар в гостинице «Миф» это не кинокомедия. И разрезанный поросенок поглощается молодыми и здоровыми парнями, а также их сильно накрашенными женщинами. Под холодную водку (даже издали я вижу, какие запотевшие бутылки) поросенок идет просто замечательно.
— Тебе не понравилось у меня дома? — спрашиваю я Марусю. Я знаю, что не надо этого делать, потому что ответ очевиден. Но, вопреки здравому смыслу, вопрос прозвучал.
— Нет, что ты! Мне очень понравилось! Только… Я не хочу оставаться здесь на ночь. Где ложиться? Тут очень тесно. Давай поедем домой сегодня вечером.
— Домой — это в Москву? Ты что! Мама обидится… Они так долго нас ждали. И еще… мы же хотели на могилу к Керн завтра ехать, — почему-то мне кажется это убедительным аргументом.
— А Зойка не обидится? — вдруг заводится Маруся. — Все обидятся! И мама, и Керн! И Томка, и Зойка! Я тебе не какая-то дурочка. Я все вижу. Как ты меня показываешь, будто манекен. А они все смеются у меня за спиной. И эти тоже. — Маруся делает неопределенный жест в сторону компании братков.
— Марусь, ну кто над тобой смеется? Ты что? Ты такая красивая, лучше всех. Тобой все восхищаются.
— Ага, весь аул! Восхищаются они. А Керн твоя, к слову, дура. Сдался ей этот неудачник.
— Марусь, а может, и я неудачник, по-твоему? Зачем я тебе сдался? Ну скажи мне откровенно. Ты же у нас маасквичка! Элита. А я такой же, как они. — Я тоже показываю на братков, не замечая, что они перестали разговаривать и смотрят на нас. — А ты у нас такая, блин, утонченная… Вместо туалетной бумаги, пожалуй, серпантин используешь!
Я знаю, что специально сказал «маасквичка» — всегда иногородние так пытаются дразнить коренных жителей столицы за характерный говор. И про серпантин тоже. Хотел ее задеть.
— Тебе правду сказать? — Глаза Маруси вдруг становятся злыми-злыми.
— Конечно, любимая. Правду и только правду.
— Ты готов жениться! А я хочу семью. Официальную семью. С венчанием, со штампом в паспорте, с медовым месяцем. Я, сколько себя помню, мечтаю полететь в медовый месяц куда-нибудь на острова! Я буду выкладывать фотки на своей страничке, и все будут видеть, что я очень-очень красивая и очень-очень счастливая.
— Дурочка. Какая же ты дурочка. Ты это назло мне говоришь, нарочно? — конечно, такого не может быть, я понимаю. Никто не выходит замуж из-за того, чтобы выкладывать фотки в соцсети!
— А что? Почему сразу дурочка? Ты считаешь меня ребенком? — Маруся, мне кажется, вот-вот расплачется. — Все просто не так…
Она вдруг вскакивает и выбегает из зала. «Телефон не забыла захватить, — автоматически замечаю я. — А что я, в сущности, о ней знаю, о своей невесте. Вещь в себе. Как большинство женщин».
* * *
Когда Маруся наконец возвращается, уже вовсю гремит музыка. Сгустились сумерки. Началась дискотека.
Поет, кажется, «Аэросмит». «Крэйзи! Крэйзи! Бэйби, ай гоу крэйзи…» — надрывается губастый солист. Когда-то мне нравилась эта музыка. Лет два-дцать назад. Какое старье. Мне неприятно, что даже музыка здесь старомодная.
Я оставляю деньги на столе, поднимаюсь и беру Марусю за руку. Тащу ее через полутемный зал — и очень вовремя. Потому что братки встают танцевать в круг. «Аэросмит» сменяется на «Ласковый май», и на лицах парней неожиданно проступает что-то детское и радостное. Они поднимают руки и прыгают. «Белые розы! Белые розы!» А Маруся, хулиганка, перед тем как выйти из зала, тоже поднимает руки и подпрыгивает в такт мелодии. Типа — знай наших!
А может, просто обозначает таким образом презрение к торжокской богеме.
Мне кажется, что музыка вдруг замолчала. А на самом деле она по-прежнему гремит, просто братки перестали танцевать, они наконец-то поняли, что сейчас есть повод подраться. Марусины глупые селфи, выпадение из контекста бара и, наконец, ужимки и прыжки. Чаша терпения пацанов переполнена. Я это понимаю каким-то звериным чутьем и быстро выталкиваю Марусю за тяжелую деревянную дверь на лестницу. Уф!
Но, оказывается, я рано радуюсь.
Дверь распахивается, и два парня быстро догоняют нас. «Нельзя бежать! Нельзя бежать!» — приказываю я себе мысленно, хотя по спине пополз мороз и хочется рвануть вниз через три ступеньки. Если побежать — собьют с ног и отметелят. И Маруся… что она подумает!
А ей, кажется, вообще все равно. Цаца. Заварила кашу.
— Милейший! На минуточку, — слышу я в спину. Медленно-медленно оборачиваюсь. Ну да, так и есть: за спиной стоят эти двое в трениках с провисшей задницей. Отвратительная мода. А еще несколько лиц выглядывает из открытой двери. «Белые розы! Белые розы!» — похоже, эта песня станет гимном моего позора.
— Чем могу быть любезен? — неожиданно для себя, под стать фразе о «милейшем», выдаю я.
Можно подумать, что тут ведется беседа нескольких лондонских денди. Просто джентльменский клуб.
— А что дамочка так лыбится все время? Мы что, ей не нравимся? — спрашивает тот, который выглядит постарше. Он невысокий, коренастый, с большим ртом и железной фиксой. Мне кажется, он неглуп. И обращаться я решаю к нему, а не ко второму — высокому, худому, рыжеватому. Может, потому что у рыжего явная асимметрия лица. А я читал в какой-то книге, что люди с кривым лицом и душой тоже кривоваты.
— Костян, может, на улице с ним поговорим? — спрашивает рыжеватый.
— Брат, — говорю я. — Это не дамочка. Это моя невеста. Она приехала из Москвы, хочет посмотреть наш Торжок.
Сразу три уловки. Вежливо-родственное обращение «Брат». Это значит — мы одной крови! Хотя, понятно, я не считаю себя с Костяном одной крови. И уж тем более с этим маргинальным кривым. Вторая уловка — Маруся приехала посмотреть город, приехала в гости. Гостей не бьют. И, наконец, третья — «наш» Торжок. Я подчеркиваю — что я свой, местный.
— А чо ты, если местный, как фраер вырядился? Фофан пестрожопый. — Рыжеватый смотрит на меня неодобрительно.
— Братухи, я из района Коммунарки, — поясняю я. — А вы откуда? Вы Черепа знаете? Сашку Чухонца?
Господи, откуда я вдруг вспомнил про Чухонца. В параллели когда-то учился, а потом загремел на нары — сразу после школы. «Память — капкан», — глубокомысленно говорит Поппинс в таких случаях.
— Ты, бля, Коммунаркой уши не запаривай, — продолжает валить меня рыжий. Видно, хочет по-драться… — Лучше скажи, почему телка фотки свои делала с нами? Куда выложить хочет — в стаграм? Думает, мы тут ей лошары совсем?
Маруся включает святую наивность. Хлопает своими густыми ресницами и достает смартфончик.
— Ребят, вы чего… Вы клевые! Я в таком баре первый раз — чтобы и музыка, и ребята такие хорошие…
Костян смотрит с недоверием, но я вдруг чувствую, как обстановка становится мягче. Такое же чувство бывает, когда в хмурый день вдруг между черных туч маленькое прояснение. Кусочек синего неба. Пусть он и закрывается снова летящими тучами, но ты уже знаешь: непогода отступает.
— Выпить с нами не хочешь? У Валерки сегодня бёздик, — обращается он к Марусе. А меня как будто и нет рядом.
— Ой, Костик! Нас родители ждут, — щебечет Маруся. — А Валерке мы подарок хотим сделать. Выпейте за его здоровье от нашего имени тоже! Ну пожалуйста!
Она быстро открывает свою сумочку-клатч и достает купюру с изображением славного города Яро-славля.
Как будто готовилась заранее. Потрясающе. Я и слова вымолвить не успел…
Костян говорит:
— Денег твоих не надо! Мы, торжокские, денег с баб не берем.
— Гусары денег не берут! — откуда-то из подсознания выскакивает из меня глупая шутка. Я смеюсь один. И чувствую себя просто жалким…
— Ты… это… Невесту лучше домой отведи. А то Торжок город злой бывает, — весомо говорит Костян.
— Может, того ему… бубен набить? — с надеждой спрашивает-таки рыжий.
Костян не удостаивает его ответом. Он смотрит вслед Марусе, а та легко и грациозно, чувствуя спиной его взгляд, вышагивает на своих стройных ножках. Обутых в лоферы. Лохеры.
Плетусь за ней и я. Не гордо и не победно. Сердце колотится, и чувство — какое было в школе. Ко-гда не выучил домашнее задание, а учительница водит ручкой по журналу и говорит: «К доске сейчас пойдет… Пойдет…» — а потом вдруг — раз! — и называет чужую фамилию. Ты унимаешь колотящееся сердце, а радость уже перехлестывает. Спасен!..
* * *
Мы выходим из бара, так и не примирившиеся до конца… Но я легко обнимаю Марусю за талию.
Мне гордо идти с ней. Пусть я и не орел и не смог, как Ван Дамм в кино, раскидать торжокских хамов. Сейчас мне это уже кажется забавным приключением…
И я вновь иду с Марусей. Хоть она и сказала глупость, — что хочет замуж для свадебного путешествия. Ну, я же не такой все-таки простак, чтобы из-за этого за меня выходить замуж. Я человек старше ее, симпатичный, надежный. Стабильный. У меня есть серьезная профессия, которая, в случае чего, всегда нас прокормит. И еще у меня имеется здоровая тверская закваска. Я мужичок-корешок. Со мной дом будет полная чаша. И все в этом доме будет расставлено по фэн-шую.
Я вспомнил про фэн-шуй и сразу про Эльку. Ее тема…
Настроение окончательно испортилось.
Не хочу дальше рассказывать. Мы уехали из Торжка этим же вечером, не оставшись ночевать. Не съездив на могилу Керн в Прутне. Не поговорив толком с родителями. Они, конечно, обиделись…
Когда загружали в Марусину машинку какие-то варенья-соленья, заботливо приготовленные моей мамой, к нам подошел мужичок. Он показался мне очень старым — одутловатым, беззубым, лысеющим, одетым почему-то в зимний пуховик, несмотря на теплый майский вечер. Оказалось, это был мой бывший одноклассник Шубин. Маруся была в культурном шоке, когда он начал обнимать меня, да и ее заодно. Грозил приехать к нам в Москву, и чтобы мы ему там все показали. И Кремль, и Мавзолей. Больше Шубин ничего из московских достопримечательностей не знал. Но считал себя «на уровне». Намекал на какие-то наши общие детские секреты…
Я обещал родителям приехать к ним через две недели. Они сделали вид, что поверили. Из окна первого этажа махали нам две кудрявые головы: Томы и ее дочки Зойки, секс-бомбы.
Маруся гнала машину как сумасшедшая. Мы доехали до дома за два с половиной часа. Почти не разговаривали. Но, высаживая меня возле метро «Войковская» (первая станция метро при въезде в город), Маруся вытянула губы для поцелуя и улыбнулась.
— Зайка была сердитая. Прости ее…
Я, конечно, простил.
Мир моих родителей, города моего детства — это одна жизнь. Простая и размеренная, спокойная и скучноватая. Там ярчайшее впечатление — когда вскроется весной от льда Тверца. Или приедет автолавка и привезет первые арбузы. Или грозный Костян устроит драку в баре «Миф». За десятилетия там не меняется ничего. Только родители стареют… А так — и ковер на стене, и чайный гриб в банке, и Томкина голова в окне первого этажа — в состоянии статус-кво.
Мир Маруси совсем другой. Он никогда не пересечется с тихим торжокским бытом. Загадочный папа, интриган из Совета Федерации, которого я так никогда и не видел воочию. Манерная мама Маргарита с ботоксом «где надо». Капучино с шоколадом. Принцип существования — «все чики-пуки». Нельзя показаться неудачным, неуспешным. Это самое страшное, что может произойти. Хотя, если вдуматься, проблемы — это неотъемлемая часть жизни. Так же, как старость, болезни… Зубы не могут быть всегда первозданно здоровыми. Они подвергаются зло-вредным микробам и чернеют от налета. А то, глядишь, и вовсе выпадают. Семья Маруси отрицает саму возможность того, что у кого-нибудь из них могут быть плохие зубы. И если уж случается несчастье — зуб червивеет, его обтачивают и делают на него белоснежную коронку, которая вновь символизирует: здесь не может быть порчи! Здесь все идеально.
Даже если сам зуб давно уже сгнил.
Глупо, конечно, объяснять жизнь на примере зубов. Но я же — дантист. И для меня это объяснение простое и понятное…
* * *
Не могу перестать сравнивать Марусю с Элькой. Маруся — идеальная партия. Я знаю, что счастливо проживу с ней всю жизнь. Она меня слушается, я для Маруси первый и любимый мужчина. Маруся богата. С ней я упрочу свое положение в большом городе; а там, гляди, и папаша из Совета Федерации как-то поможет с карьерой… Я не намерен всю жизнь работать в «Народном зубе». Мне нужен рост, и, конечно, Марусин отец сделает все возможное, чтобы его зять двигался вперед.
По€шло звучит, но что поделать… Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Есть такая пословица.
То есть Марусю я люблю и сердцем, и умом.
Эльку я порой просто ненавидел. Она эгоистична, нахальна. Элька меня не любила и ничего для меня делать не собиралась.
Может быть, женщина и не должна ничего делать для мужчины. Когда-то раньше не должна была делать. А сейчас мужчин мало. Если еще отбраковать явных уродов, геев, алкашей, останется вообще считанное количество мужиков… Поэтому девчонки должны что-то делать для того, чтобы удержать парня возле себя.
Танька пожертвовала Поппинсу свою поездку в Москву — и в итоге вышла за него замуж.
Маруся кладет к моим ногам блестящее совместное будущее. И я отвечаю ей взаимностью.
Когда анализируешь это страшное явление, то просто кровь холодеет. Что бы сказал мой отец или директор школы, если бы узнал, что я так рассуждаю? Скорее всего, они бы просто подумали, что я прикалываюсь. Потом, убедившись, что я на самом деле такой — возненавидели бы… Отец бы сказал: «Проститут!»
И был бы прав. А может, и нет. Идет чудовищное перераспределение гендерных ролей. Мы стараемся продать себя подороже. И в профессии, и в личной жизни. Какой смысл отдавать десятилетия своей жизни для того, чтобы «выбиться в люди», если можно одним махом оказаться на другом уровне, — в одной лодке с людьми успешными, теми, которые ездят отдыхать на Гоа и в Куршевель, меняют машины, едят в ресторанах?
Я не помню, чтобы мои родители ходили в ресторан. Да, мама хорошо готовила — и были даже такие изыски, как кулебяка, или фаршированная щука (из реки Тверцы), или свиная ножка с квашеной капустой. Но все — своими руками. И только на праздник. А в Москве многие люди живут совсем по-другому. Ходят есть палочками японские суши и том ям. Не только по праздникам. Это — европейская культура хождения в рестораны для того, чтобы поесть. И в этом есть особый шик. В том, чтобы за тобой убирали грязные тарелки. В том, чтобы лениво водить пальцем по меню, в замешательстве определяя — что бы такое заказать сегодня? На слове сего-дня ставится смысловой акцент. Оно дает понять: ты — ресторанный завсегдатай и, соответственно, принадлежишь к клану избранных.
Поппинс считает, что это наше нищебродское прошлое толкает в бочину: давай, побудь барином! Гульни.
Я не согласен с Поппинсом. Это просто — тренд времени. Казаться, а не быть. Брюхо можно так же, и даже сильнее, набить простыми пельменями, сваренными вечером на кухне. Самая полезная и вкусная еда — самая простая. Отваренная картошка с сосиской, а на закуску квашеной капусты… Мммм… А если еще махнуть рюмку водки — прямо из холодильника! От холода она становится как будто тягучей, эта «огненная вода». А стопку лучше положить заранее в морозилку. И пить водочку прямо из такой вот ледяной тары. Вкусно захрустеть капустой. В каком ресторане тебе так сделают?
Левка Виснадул, правда, рассказывал, что был в Финляндии — северной стране. Там есть целый ледяной ресторан, где и столики, и скамейки, и рюмки — все ледяное. Царство снежной королевы. Но там, наверное, и сидеть-то холодно. Так, экзотика.
А дома на кухне — тепло и приятно. И можно раскидать носки по всей квартире и ходить в растянутой майке и семейных труселях. Да еще и есть картошку с сосиской под водку. Быть просто счастливым.
Но — мы премся в ресторан и заказываем там себе, скажем, блюдо под названием «Крутон». А потом оказывается, что крутон — это обыкновенный сухарь! А пюре с судаком, которое отвечает современной потребности питаться здоровой диетической пищей, приносят, в соответствии с требованием дизайнерской кухни, на плоской и толстой квад-ратной тарелке, похожей на разделочную доску. Посередине доски лежит ляпок картофельного пюре, а над ним, как остров, возвышается свернутый рулетиком кусочек рыбы. Сбоку на тарелке — обязательно какие-то зеленоватые подтеки, которые Поппинс называет «дрисня», а на самом деле это -соус от шеф-повара…
Еда выглядит абсолютно неаппетитно и стоит к тому же не меньше тысячи рублей. Мои родители на тысячу питаются неделю…
Но на следующий день мы с Поппинсом вновь идем в ресторан. «В рестик», как говорит Поппинс.
Мы должны держать планку. Простые торжокские пацаны, которые пробились «в осознанку». Смогли. Покупают машины и квартиры, ужинают в ресторанах, кадрят Марусек и Элек. Вот только на море еще не были… Но это дело поправимое.
Маруся — это билет на пожизненный крутон с дрисней. Даже не билет, а абонемент.
А Поппинс с Танькой прогадал: пятнадцать лет, считай, потратил на создание статуса. Все получилось, но теперь рядом Танька — унылая, расплывшаяся.
И, главное, Танька напоминает о трудном прошлом. О неудачах и голодных бесприютных месяцах. О родной школе и маленьком городке, который остался где-то вдали. О том, как Поппинс написал на белой футболке черным фломастером: «Abibas» вместо «Adidas», потому что хотелось быть модным, а никак не получалось.
Если бы Женька не был уже Поппинсом, без сомнения, он стал бы «Абибасом». Сегодняшние московские партнеры по бизнесу не знали про Абибас. И Олеся, продавщица дорогих ботинок, не знала. Для них Поппинс был крутым и успешным. Но Танька-то помнила этот позорный эпизод и многое другое… И именно это грызло Поппинса.
— Доброе слово и пистолет делают чудеса, — цедил мой друг сквозь зубы. Он набирал номер «Семья». И тут же, переключив настроение, говорил в трубку: — Танюх, сегодня к ужину не жди. У меня переговоры важные будут. Да. Я тоже. Целую.
Давал отбой, потирал руки и светлел лицом.
— Ну что, пацаны? По коням?
* * *
С этой поездкой на родину я позабросил свои сновиденческие практики. Сокол сказал, что совсем меня потерял и даже думал — мне надоело. Надоели сны. Да, он правильно почувствовал, что я отдалился. Я думал: наверное, надо жить настоящим. Маруся ведь замечательная! Живая и веселая. В Торжке, дома, я ни разу не уходил в «осознанку». И был вполне себе счастлив.
А потом вернулись в Москву, и я понял, как я затосковал. По своей пыльной дороге, с которой во сне все начинается. По Эльке… Даже и по Соколу я соскучился — он был единственной реальной ниточкой, которая связывает меня с потусторонним.
Ну, а ниточка эта, считай, не такая уж тоненькая. По ней, как по Большому Каменному мосту, можно проникнуть в зону запретного и встретить там Эльку. Но Элька была на меня обижена за поездку с -Марусей.
Я лежал в своей холостяцкой квартирке и вел мысленную беседу с Элькой.
— Ты сама виновата, что у меня есть Маруся. Это же ты оставила меня. Я так страдал один! Это несправедливо, то, что ты обижаешься. И даже во снах ты ко мне приходишь очень редко. А я так жду.
Я знал, что должен вспомнить что-то хорошее и радостное, но никак не получалось.
Злая Элька, она могла контролировать даже мои воспоминания, посылая мне, словно в наказание, самые больные и тяжелые мысли. Что ж, такое тоже надо помнить. Ведь прошлое нельзя подвергнуть коррекции. Это не О.С…
* * *
Я заметил у Эльки на пальце необычное кольцо. Очень большое, переливающееся разноцветными искрами.
Я схватил ее узкое запястье, поднес кольцо к глазам. Даже мне, лоху, было понятно, что это эксклюзив. Как будто изогнутые лепестки цветка, обсыпанные бриллиантовой пылью. Каждая пылинка отображала радужный спектр. Белое золото, желтое золото, красное золото. Тычинки цветка украшали крошечные разноцветные камешки.
— Откуда такая красота? — спросил я. Ревность, горечь, предчувствия — все это я старался скрыть, но она, конечно, заметила.
— Это из Флоренции. Там есть такой Мост любви, на нем много ювелирных лавочек. Каждая красивая женщина хочет кольцо оттуда. Сделали на заказ. Другого такого колечка нет… Нравится? — Она вытянула руку и полюбовалась золотым цветком. — Я летала туда на несколько дней с Леонидом Викторовичем.
— Когда? Когда летала?
— Да где-то с месяц назад. А что? Ты возражаешь? Может, ты хотел бы мне запретить? — Элька откровенно смеялась мне в лицо.
— Ты его любишь? — Господи, как я жалок.
— Кольцо? Очень люблю! Это же эксклюзив! И потом, оно отображает мою сущность. Флорентийские мастера…
— Этого Леонида, — перебил я. — Ты его любишь?
— Он мой друг, он мне очень помогает. Леонид настоящий мужчина, с ним нет никаких проблем. Я люблю тех, кто любит меня. Кто заботится обо мне.
— Что же ты за него замуж не выходишь?
— Ты все-таки смешной, Всеволодька. Ты уехал из деревни, но деревня не уехала из тебя. За руку взял — женись… Что ж, мне за всех замуж выходить? А зачем? Я не люблю обязательства. А Леник женат к тому же. У него там какие-то дети, учатся в Англии. Он к ним все время мотается. Зачем мне Лениковы дети? С ними надо как-то выстраивать отношения. Нет уж, пусть он любит меня на нейтральной территории.
— Ты гадина, Элька. Я расскажу ему, что ты и со мной тоже…
— Ты просто несовременный и закомплексованный дурачок. Не зли меня. Мы с тобой встречаемся вполне для конкретных целей. И если ты сейчас же не приступишь к этим самым целям, то можешь просто проваливать на все четыре стороны.
— Женщина должна… — начал я.
— Женщина ничего не должна! Какие же вы твари, мерзкие твари, ханжи! Женщина, по-вашему, всегда должна. Быть экзистенциальным памперсом для мужика, куда вы будете сливать свое дерьмо, комплексы, алкоголизм, свои неудачи! Свою импотенцию, бескультурье, хамство! Вы будете ходить в трениках и майках-алкашках, а женщина рядом с вами обязательно должна являться с полным макияжем, маникюром, всегда в хорошем настроении и всегда — веселая! Короче — убирайся. Ты просто чмо, ничтожное чмо. И тебе никогда не хватит денег на то, чтобы купить мне такое кольцо. Даже если будут деньги, ты все равно подумаешь, что это «лишняя трата денег». Вот поэтому ты и есть чмо…
Она читала меня, как открытую книгу. Действительно — моя природная скаредность, прижимистость всегда заставляла покупать на распродажах, ездить за продуктами в «Ашан»…
Я просто озверел.
Схватил ее за плечи, увидел лицо — близко-близко… В Элькиных глазах не было страха. Она вообще ничего не боялась. Только — насмешка. Даже ненависти не было. Я для нее не мужик. Так, насекомое. Или — улитка. Мокрая и сопливая улитка, с рожками-усиками на голове, ползущая по песку. Я у Эльки — для траха. Как она изволила выразиться.
Жуткое, нечеловеческое возбуждение — абсолютно животное, охватило меня. Я стал сдирать с нее тонкий шелк; хрустнула ткань. Элька не сопротивлялась, только тяжело дышала. Я развернул ее спиной… Заела молния на джинсах. А потом… потом я почувствовал, что уже не смогу. Ничего не смогу. Может, виной тому было перевозбуждение, может, Элькин презрительный смешок. А может, я действительно просто слабак и лошара. Я выпустил Эльку. Она выскользнула маленькой золотистой рыбкой. Села на корточки, закрыла лицо руками… Плечи вздрагивали, рыжие волосы были растрепаны. На пальце поблескивало эксклюзивное кольцо из Флоренции. Жалкая моя малышка.
— Эль, ну чего ты… Элечка. Я люблю тебя. Давай уедем отсюда. Хочешь? Я буду заботиться о тебе, готовить тебе завтраки, подавать в постель. Ты будешь рисовать. Я все для тебя сделаю, изменю себя, изменю свою жизнь… Я буду достоин тебя… — Я гладил ее по волосам и умирал от любви и нежности, от мимозового запаха.
Она убрала руки от лица.
Какой я дурак! Она не плакала. Она смеялась — давилась смехом. А чего я ждал, жалкий урод…
Мне осталось только уйти. Она меня не окликнула.
* * *
Я не видел Эльку месяц. Сначала я ее ненавидел. С садистским удовлетворением думал: наверное, эта гадина ждет, что я ей стану названивать — а вот ей!.. Потом, через неделю, дрожа как в лихорадке, отправил ей эсэмэску. Просто чтобы обозначиться — я жив.
Она не ответила.
Не ответила и на вторую, и на третью… Через три недели я ей позвонил. Она сбросила звонок… Еще через несколько дней — абонент был недоступен. Абонент не абонент.
Я решил: занесла меня в черный список.
Я должен ей все объяснить. Пусть делает что хочет, пусть ездит во Флоренцию и на слет байкеров, пусть поет в ресторанах, не попадая в ноты. Пусть напивается. Пусть вылепляет новые фаллосы для своей глупой коллекции.
Но она не должна вычеркивать меня из своей жизни. Я должен ей это сказать, добиться того, чтобы, хоть изредка, иметь возможность вдыхать запах ее духов, касаться непокорных прядок. Целовать маленькое розовое ушко. Слушать парадоксальные суждения. Я задыхаюсь без нее, умираю.
И пусть считает меня слабаком — я такой и есть. Но без нее я не могу дышать.
Я купил букет маленьких кустовых роз — они были желто-коричневые, рыжеватые. Похожие по цвету на Элькины волосы. Наверное, такие ей понравятся… Розы были маленькие и упругие, очень свежие. Я взял десять веток — хотя и знал, что надо брать нечетное количество цветков, но продавщица сказала:
— Это же кустовые. Здесь в каждом кусте несколько цветков…
Почему-то вспомнил, как девчонки из нашего класса когда-то давно рвали букеты полевых цветов, чтобы украсить ими кабинет для выпускного вечера. Цветы самые обыкновенные, ромашки, желтые купальницы, синие колокольчики, розовые кошачьи лапки… Потом сидели на высоком берегу реки и пересчитывали в своих букетах цветы: чтобы не получилось четное количество. Мы, пацаны, специально их сбивали со счета. Девчонки сердились, начинали сначала…
Подошел к дому Эльки. Еще раз набрал ее телефонный номер, на всякий случай.
Номер был недоступен.
Возле подъезда стояла группа людей в черном. А Кутузовский проспект перегорожен толпой байкеров. Мрачные, бородатые дядьки; молодые девчонки на пассажирских сиденьях. Они курили, перебрасывались фразами.
Я шагнул к металлической подъездной двери. Я знал, что где-то здесь непременно должен быть нацарапан код… Надо только отыскать его среди других надписей.
Дверь распахнулась внезапно. Прямо на меня выплыл гроб в золотых рюшах. Я отшатнулся…
Еще не осознал головой, но сердцем уже все понял. Гроб был закрыт, и я еще надеялся. Ведь — пока не увидел, что человек мертвый, он для тебя жив.
— И ты здесь? — услышал я строгий голос. Это был тот мужик, которого я видел тогда в ресторане с Элькой; толстый бизнесмен. Сейчас он был в черном костюме, идеально подогнанном по несовершенной фигуре.
— Леонид Викторович, автобусы подъехали, — сказал секьюрити. Из тех, которые говорят про свою голову: «А еще я в нее ем». Два метра ростом, лысая голова, взгляд бесцветных глаз пристальный и страшный. Пудовые кулаки.
Леонид Викторович! Так вот кто ты, флорентийский любовник Эльки…
Мысли путались. Как же теперь… Кольцо с бриллиантовой россыпью. Черный круг. Мне казалось, он меня засасывает, этот круг, и резко вдруг затошнило. Я присел прямо на газон…
— Вы поедете? В автобусе еще есть место, — за плечо меня трясла какая-то женщина.
— Да, конечно…
Я поднялся, взял свой букет ржавых роз.
Как же много народу! Как будто провожаем королеву. Впрочем, Элька была королевой…
В автобусе я ехал рядом с Элькой. Вернее, с гробом, обитым золотой тканью. Моя любимая была внутри этого золотого кокона, и я думал: как она там? И еще думал: хорошо, что я не вижу ее мертвой. Я бы не перенес этого.
Из разговоров я понял, что она разбилась на мотоцикле, где-то на Рублево-Успенской трассе. На мотоцикле Элька была не одна, за ней сидел какой-то молодой парень, Вадик. Сейчас Вадик в реанимации, болтается между жизнью и смертью. А Элька вот — всмятку.
Это женщина так сказала: всмятку. Меня опять затошнило…
* * *
Что было делать обыкновенной сельской дурочке в магазине класса «Люкс»? Посмотреть, как красиво живут другие? А потом вернуться в свою реальность. Вот за этот поход в сказку она и поплатилась. Девочка в коляске осталась жива, мамаша, как и Вадик, в реанимации. А Элька, моя Элька, лежит в гробу с рюшечками.
Надо за все платить… За что расплачиваешься ты?!
Перед кладбищем поехали на Рублево-Успенское, на тот самый перекресток, где произошла авария. Так решил Леонид Викторович. Он тут за всех все -решал.
Вышли из автобуса: я на негнущихся ногах, все еще не в состоянии осознать произошедшее. Мне что-то говорила женщина в черном, а я ей отвечал. Что — не помню.
Помню, что газоны уже были зеленые и на них цвели тюльпаны. Яркие, жизнерадостные. Все были в черном трауре, и только я один, как ненормальный пестрый щегол, в голубых джинсах, белых кроссовках и красной майке. На меня смотрели с осуждением.
Движение вновь перекрыли. Леониду Викторовичу вообще все было подвластно. Наверное, он мог бы взглядом остановить не только поток машин, но и заставить замереть водопад, прекратить ливень…Гроб вынесли из автобуса. Поставили на две табуретки.
Он произнес короткую и горькую речь. Смысл ее сводился к тому, что Господь забирает лучших, что есть те, для кого не существует правил и светофоров.
Женщина в черном заплакала. Байкеры были суровы, как истуканы. Леонид Викторович промокнул глаза белым платочком. Пошел в свою черную блестящую машину (водитель уже угодливо открыл дверь). Потом, словно вспомнив что-то, вернулся, подошел ко мне. Ткнул в грудь (нелепая красная майка) и сказал тихо, но значимо:
— А ты, снегирь, на кладбище не поедешь. Нечего тебе там делать…
Я хотел возразить, хотел что-то сказать, объяснить. Но Леонид Викторович слушать меня не стал, а охранник — Каменная башка — легонько задел плечом и предусмотрительно поднял указательный палец.
Я закивал. Типа — понял, командир!
Как я ненавидел себя в тот момент. Как нена-видел…
Люди черной вереницей потянулись в автобус. Женщина, с которой я разговаривал по дороге, несколько раз оглянулась, потом скрылась в автобусном чреве. Первыми рванула с места бэха, на которой повезли Леонида Викторовича; за ней — другие машинки, черные и блестящие, как будто их только что сняли с конвейера. Потом — похоронный автобус, грустный и кругленький. Элька моя — вот какая у тебя карета… За автобусом вереница мрачных байкеров. Недоигравшие в свои «машинки» мальчики с бородами и в банданах, в черных кожанках. Ни один из них не взглянул на меня, как будто я — пустое место.
Я постоял какое-то время, глядя им вслед. Перекресток ожил, движение восстановилось. Положил букет своих рыжих роз на нежно-зеленую, юную траву.
* * *
Сколько я просидел на газоне — не знаю. Мимо сновали машины, город жил своей жизнью. Расцветала майская природа. А я умирал. Я становился травой, прорастал красными тюльпанами, щедро высаженными на клумбах. Люди смотрели на меня с опас-кой: наверное, думали, что я — обдолбанный нарик.
Из оцепенения меня вывел телефонный звонок. Я поглядел на экран и не поверил своим глазам: меня вызывала Элька. Ее смеющееся личико, рыжие волосы. Снимок я сделал в ту памятную поездку на Воробьевы горы, когда закатное солнце горело в ее волосах… Поставил как аватарку на контакт. Конечно, Элька не могла умереть. Ведь золотой гроб-кокон так и не был открыт. Может, там просто лежала груда старых газет или какие-нибудь тряпки…
— Алло! Алло! — заорал я. — Ты где? Как же ты меня напугала! Это был розыгрыш, да?!
— Снегирь, не кипеши, — раздался раздраженный и усталый мужской голос, который я сразу узнал.
Леонид Викторович, великий и могучий.
— Ты где сейчас находишься? Все там же? Жди, сейчас за тобой машину пришлю. Разговор есть.
Через двадцать минут подъехал черный сверкающий лимузин с тонированными стеклами. Оттуда вышел шкаф, которого я мысленно назвал «Каменная башка» за сходство с одноименным персонажем. Без лишних слов поднял меня под руку с газона, придирчиво осмотрел, прежде чем затолкать в салон. Отряхнул несколькими небрежными движениями налипшую на джинсы траву и пыль.
Дверь захлопнулась. Поехали. Мне было все равно: куда, с кем ехать. Главное, я понял невозвратность процесса. Эльки действительно нет, раз ее телефоном пользуется этот папик. А о чем хочет говорить со мной, — какая разница. Наверное, убьет. И, наверное, это лучшее из того, что со мной может теперь произойти.
Оказалось — Леонид Викторович пьян вдребезги. Но все так же подтянут и строг. Он олицетворял собой благородную скорбь. Леонид Викторович никогда не стал бы валяться на газоне, как раздавленная улитка.
Улитка…
Мы вышли тогда с выставки Коровина на Крымском валу. Вокруг Дома художника раскинулся зеленый газон. Элька сняла туфли и пошла по траве босиком. Возле большого камня-валуна, где была устроена мини-альпийская горка, она увидела ползущую улитку… Откуда она взялась здесь, в центре Москвы?! Элька взяла улитку на ладонь:
— Смотри! Она шевелит рожками!
Я совершенно глупо и немотивированно попытался ткнуть улитку горящей сигаретой.
— Какие вы все дураки! — рассердилась Элька и бережно опустила улитку на траву, возле камня.
— Она здесь живет. Здесь ее домик и детки…
Элька позвонила мне на следующий день, утром. С ней была истерика.
— Да что случилось — объясни толком! — Я почти орал по телефону.
— Я приехала… Я привезла капусту и листья салата… Я хотела ее покормить…
— Кого — ее?!
— Улитку! Нашу с тобой улитку… И увидела ее, растоптанную чьим-то каблуком. Ублюдки! Как я их ненавижу…
— Да что такое улитка?! Примитивный кусочек слизи!
— Сам ты слизь… Улитка, ползущая на гору Фудзи, — один из главных символов японской культуры, да и жизни вообще. Ведь для того, чтобы доползти до вершины, надо не умножать скорость на время. Но нужно умножать упорство на признание. Если ты, конечно, понял, о чем я…
Элька, Элька. Ты никогда не могла ползти со скоростью улитки. Тебе нужна была скорость другая, сверхзвуковая.
* * *
А Ленчик, как всегда, был в действии.
Сейчас, например, он заканчивал поминки по Эльке. Проходили они в пафосном ресторане, где так неуместны были зловонные байкеры. Да и я был там неуместен. Пожалуй, это было подходящее место для самого Леонида Викторовича и его охраны.
Разношерстная компания поминающих уже расходилась, вернее, разъезжалась на своих мотоцик-лах. Пили не все, а только те, которые не за рулем. Поэтому, наверное, водки еще оставалось много. Как я понял, «Ночные волки» поехали куда-то на природу, помянуть Эльку там «по-человечески», как сказал один из участников мероприятия в черной бандане с черепками. Издали мне показалось, что это не черепки, а розочки…
Оставалась еще та тетка, которая окормляла меня в скорбном автобусе. Оставались охранники — вот уж они-то были здесь на месте, с такими выражениями лиц, как будто в братской могиле только что похоронили всех их знакомых. Впрочем, я замечал, что у секьюрити всегда такие лица. Суровые и значимые. И одеты они всегда в черное.
Леонид Викторович жестом велел принести мне чистую посуду. Собственноручно плеснул водки в широкую рюмку. Сказал:
— Ну, не чокаясь. За нашу Эльку…
Так и сказал: за нашу. Значит, мысленно уже согласился с тем, что Элька принадлежала не только ему, но и мне тоже. Для такого важного человека это серьезная уступка.
Водка пошла трудно. Я поперхнулся, закашлялся.
Леонид Викторович посмотрел на меня с жалостливой брезгливостью.
— Не понимаю, что она в тебе нашла, — сказал он. — Она говорила, что у нее есть парень с гагаринской улыбкой. Какой-то зубодер. Ты, конечно, не мог оценить по достоинству такую бабу. Вы, современные полупидоры, вообще ничего не можете оценить. Ничего и никого. Вы заранее просрали свою жизнь. Огурцом вон заешь. Или рыбкой.
Я подцепил кусочек красной рыбы, она показалась мне очень жирной и совсем несоленой. А может, это водка перебила вкус.
— Ты спрашиваешь, как я нашел твой телефон, — продолжал Леонид Викторович.
Хотя я его ни о чем не спрашивал. У таких вот Леонидов Викторовичей свои каналы информации. Иногда мне кажется, что они априори знают все, что было, все, что будет, все, чем сердце успокоится. Только счастья это не прибавляет.
— Ты был записан у нее в адресной книжке под именем «Первый». А никакого второго, третьего не было. Я вот записан как «Ленчик»… Только она со своей бесшабашностью могла назвать меня — меня! — таким детским именем «Ленчик»… — Он вдруг криво улыбнулся и стал каким-то жалким и размякшим. Тут я понял, что и небожители порой бывают сломлены горем и алкоголем.
— Почему «Первый»? — глупо спросил я.
— Ну это уж не мне знать… — вдруг разозлился Леонид Викторович. — Может, потому что улыбка как у первого космонавта. Может, потому что тебе первому она дала по зову сердца. Откуда мне-то знать? Но раз уж ты первый, ты должен был к ней относиться по-другому. А ты убил ее. Понимаешь? На тебе вина.
Я был ошарашен и «первым», и этими обвинениями. Что-то возмущенно забормотал…
— Еще по одной. Пей, — опять приказал мне Леонид Викторович.
Выпили не чокаясь. Помолчали.
— Ты знаешь, как она погибла? — Голос Леонида Викторовича опять изменился и стал стариковски-дребезжащим. Мне показалось, он еле сдерживает слезы.
— Она ехала за рулем, как всегда, без шлема. Сколько раз я ей говорил… С ней этот пацан ехал, он вроде куда-то торопился, и она сказала, что его подбросит. И там этот перекресток, ну, где мы были сегодня… Какая-то курица вдруг побежала на красный светофор — с коляской! Тварь! Ненавижу таких идиоток. Ладно сама бежит, так еще и ляльку тащит. Внезапно вдруг сорвалась прямо под колеса. А Элька среагировала мгновенно. И вывернула руль. Врезалась в столб. И в лепешку. Моя Элька. И хоронили-то в закрытом гробу, это ж надо так разбиться… — Он уже не скрывал слез.
Я тоже заплакал. Я представил почему-то глаза того ребенка в коляске. Наверное, у него глаза как две вишенки — круглые и удивленные.
— А что та женщина с ребенком? — невпопад спросил я.
— Ну а что этой дуре сделается. Яйцо осталось в сохранности. Пойдет нести новые, — безразлично ответил Леонид Викторович. — Понимаешь, Элька была права на дороге. Она могла бы ехать на светофор. Могла бы лишь задеть коляску. Ну, вылечил бы я потом этого ребенка… Но она не стала рисковать. И потом, мне кажется, она не дорожила жизнью.
Еще выпили.
С портрета, перечеркнутого траурной ленточкой, на нас смотрела веселая Элька. «Ну что, бухарики, — казалось, спрашивала она. — Сдружились благодаря мне?»
— У меня есть моя личная теория золотого миллиарда, — сказал Леонид Викторович. — Ты, конечно, ее знаешь…
— Ну, это не ваше, это все знают, что один миллиард «белых людей», которые блага потребляют, а остальные восемь миллиардов их обслуживают…
— Я тебе сказал, что у меня есть СВОЯ теория золотого миллиарда, — возвысил голос Леонид Викторович. И я сразу заткнулся. — Только она основана не на материальном. А на том, что душой, возвышенной и чуткой, наделены не все. В основном человечество — это быдло, которых интересует только жрачка, бабло, шмотки. Материальный аспект. И вот они-то как раз и есть те восемь миллиардов. И только один — золотой — миллиард представляет человеческую ценность. Они талантливы, благородны, умны. По сути, размножаться надо только им. Но именно они — и не хотят. И их число неумолимо сокращается. В то время как число скотоподобных растет как на дрожжах.
— Элька была из золотого миллиарда? — чуть слышно спросил я.
— Ну конечно! А ты что, так и не понял? Парень, ты еще хуже, чем я думал! Я не понимаю — что она в тебе нашла? Поэтому я и говорю, что ты и такие, как ты, убили ее. А не курица с коляской… У нее не было опоры в жизни, не было ориентиров. Она летела как комета, сгорая на лету. Все эти ее загулы, мужики, этот дурацкий протест… Она просто хотела понимания и любви. И не могла найти… Ты ведь знаешь — она дочь рыжего Н.(прозвучала фамилия одного из богатейших людей нашей страны) и Хакасимы… Ну, этой женщины-политика. Она какая-то пришлая, с японскими корнями. Элька росла внебрачным ребенком. Отец не хотел ее признавать. Правда, на похороны сегодня приехал… Тяжелая история… Но она решила, что должна состояться сама. Порвала с семь-ей… С пятнадцати лет одна пробивалась.
— Да, я виноват… я очень виноват. Я сам теперь убит, — сказал я. — Ну а вы, Леонид Викторович… Вы же сильный, умный, вы ее могли оценить. Почему же вы ее не спасли, в таком случае?
— И я не лучше… — уронил голову Леонид Викторович. — Ты не знаешь многого. Я скован обязательствами… Но даже не это важно. Таким, как я, нельзя размножаться, потому что я к золотому миллиарду не отношусь. Для меня только бабло важно, в конечном итоге. А Он все видит, — совсем уже пьяный Леонид погрозил небу пальцем.
Подошла официантка, тихо, как тень; убрала грязные тарелки, поставила чистые. Незаметно поменяла приборы и смахнула грязные салфетки.
— У меня в Англии живут два сына, — продолжал Леонид Владимирович. Говорил он уже, признаться, с трудом. — Один нормальный, Мишка. Учится там в Кембридже. А другой, младший, это… больной. Он на все вопросы отвечает одним словом: «Китай!» Хороший пацан, очень добрый и улыбчивый, но — Китай! Ты понимаешь? Я его спрашиваю: «Коля, кто тебе купил этот кораблик?» Только что подарил. А он мне отвечает: «Китай!» Китай! Китай! Китай!!!»
Леонид Владимирович кричал, как будто ненормальным был он сам. Каменная башка, который внимательно наблюдал за нашим разговором, стремительно приблизился к нам. Он что-то зашептал Леониду Владимировичу на ухо. Тот вяло кивнул головой, достал таблетки из внутреннего кармашка. Официантка налила воды в высокий стакан, Леонид Владимирович выпил таблетку, запил водой. Он был очень бледен.
Каменная башка взял его под руку, осторожно, как хрустальную вазу. И они ушли, не оглядываясь на меня.
— Леонид Владимирович, а как же… — крикнул я им вслед. Но охранник одним взглядом заставил меня замолчать.
* * *
Тогда, ночью, я не мог уснуть — как и теперь, и все думал: как там, под землей, в золотом коконе, — флорентийское колечко, цветок. Он ведь играет всеми цветами радуги только под лучами солнца. А там, в могиле, полнейшая темнота, чернота. Как же этот удивительный цветок — он ведь завянет без солнца. Он, считай, тоже умер…
* * *
Я потерял Эльку. Но не мог смириться с тем, что никогда ее не увижу. Мне хотелось говорить о ней, вспоминать ее. Чтобы оживлять — хотя бы на словах..
После смены я все чаще стал оставаться на работе. Иногда со сторожем, иногда с Поппинсом, но чаще — с уборщицей Галиной, мы засиживались допоздна за «рюмкой чая».
Про Эльку слушала меня только Галина. Полная пожилая женщина, очень порядочная, очень простая. Я знал, что у нее был любимый сын, которого она вырастила одна, без мужа. Сын поехал на заработки куда-то в Турцию и сгинул там. Ни ответа, ни привета. Галина писала письма в разные передачи — «Найди меня», к Палахову в «Пусть все говорят»… Как-то даже видела программу у Палахова, где показывали молодого парня, изуродованного в аварии. Он жил как раз в Турции, потерял память, не мог говорить, только мычал. Турецкая женщина обращалась к зрителям: может быть, вы узнаете своего мальчика? Галина загорелась, сказала, что чувствует сердцем: это Витечка. Ездила на программу, и там даже оплатили путешествие в Турцию, где сделали генетический анализ и сказали: родства нет.
Вместе с Галиной ездили еще восемь женщин со всей страны. И каждая думала, что нашла своего пропавшего сына. И каждая получила результат анализа, в котором черным по белому говорилось одно и то же: родства нет.
Но Галина считала: ее обманули. А может, напутали. Часами она пересказывала мне историю про -своего Витечку. Я практически не слушал, я ждал, когда она возьмет паузу и тут-то я встряну со своей Элькой.
Галина так же вполуха слушала меня. Она ждала, когда я возьму паузу…
Как два тетерева на токовище, мы долдонили одно и то же. Слова были одни и те же: авария, потеря, никогда не увижу, как же так, как жаль, что не успел сказать, таких больше нет…
Я так уставал от этой бессмысленной болтовни, от водки, от тоски, что падал без сил и тут же засыпал.
Так прошло целое лето. Пыльное и душное московское лето. За три месяца я не нашел ни одного свободного дня, чтобы съездить к родителям в Торжок. Поппинс с Танькой ездили — вывозили сынка, Поппинса-младшего, к бабке с дедом; приглашали меня с собой, но я отговорился работой. А на самом деле — просто не хотел отрываться от Москвы, с которой мы теперь были повязаны кровью. Элькиной кровью. Да и не хотелось, чтобы расспрашивали родители, не хотелось объяснять, почему я так осунулся и запаршивел.
Я всерьез подумывал о самоубийстве. Это казалось лучшим и простейшим выходом из ситуации.
И тут ко мне на прием пришла юная фея, Маруся. Фею привела за руку ее мама, представившаяся солидно: Маргарита Павловна. Хотя по возрасту я был как раз между Марусей и Маргаритой.
Я осматривал Марусины белоснежные зубки и вдруг, впервые за несколько месяцев, почувствовал, что я еще живой. Что я — мужчина.
Случайно (а может, и нет) я положил руку на грудь Марусе — просто так было удобнее. И вдруг почувствовал, как между нами проскочила искра.
Строгая Маргарита ожидала в коридоре и ничего не заметила.
На последующие приемы Маруся ходила ко мне самостоятельно, и, хотя тут требовалась помощь хирурга, а не моя, находила все новые и новые вопросы о своих практически идеальных зубах… Я понял, что интересую ее вовсе не как доктор.
И пригласил ее посидеть в кафе.
В общем, обыкновенная история.
И вот я — жених перспективной и замечательной девушки. Можно сказать, что я счастлив. Я безумно ей благодарен за то, что она вытащила меня из ада.
Прошел год с того дня, как погибла Элька. Мне стало казаться — я излечился.
И снова было лето, душное и жаркое, горели торфяники… Впрочем, я это уже говорил.
В одну из таких ночей я увидел Эльку как живую. Она пришла ко мне во сне, но это был сон, в котором я проживал осознанную жизнь. Я общался там с ней, как будто ничего не было: той страшной аварии, чудовищной тоски и одиночества. Не было раздавленной улитки.
Все было как в реальности. Только — круче, ярче, как на картинах импрессионистов. Я знал, что мои Осознанные Сновидения останутся со мной навсегда, даже если я женюсь на Марусе. Я не смогу без Эльки. Там, в моих снах, мы будем строить с Элькой пряничные домики и летать на драконах, мы будем мчаться на ее мотоцикле не по дороге, а по Млечному Пути. Мы будем любить друг друга на Бали и на небоскребе в Пекине.
А в реальной жизни — с Марусей дело шло к свадьбе. Она выбирала себе платье, и мы планировали, куда поедем в медовый месяц.
И в этом не было абсолютно никакого противоречия.
* * *
Знакомство с родственниками Маруси было назначено на субботу. Я купил торт и букет роз для Маргариты Павловны. Облачился в блейзер, приобретенный специально к торжественному поводу. Необходимо было соблюсти формальность — попросить Марусиной руки.
— Они будут очень рады! — сказала Маруся. — Для них это важно — чтобы ты проявил уважение к семье с самого начала…
Я предполагал, что не так уж сильно Марусины родители будут рады, в конце концов, я не самая выгодная партия… Почему-то вспомнился тупой анекдот про то, как жена увещевает мужа перед сватовством их дочери: «Только не надо, как в прошлый раз, бросаться перед женихом на колени и целовать ему руки со словами благодарности».
Конечно, это не тот случай. Семья, в которую я вхожу, просто замечательная. Со связями, с традициями, с достатком. Но и сама Маруся — бриллиант чистой воды. И мне остается самому рыдать от счастья, что она выбрала меня. Закройщика из Торжка.
Квартира Марусиных родителей была в престижном районе — на Берсеневской набережной. Дом выходил окнами на Москва-реку, высокий этаж, прекрасный вид из окна… Обстановка богатая, но сдержанная.
— Этот диван заказывали в Италии, — пояснила Маргарита. — А с буфетом вообще была история, — его делали на заказ и сильно задержали, потому что не было необходимого оттенка дерева…
Маргарита Павловна уже доверяла мне, как близкому человеку, маленькие семейные тайны. Например, сказала:
— Наша собачка, Чарлик, боится делать свои собачьи дела на улице, потому что у нее в детстве был стресс, на нее там налетел огромный сеттер… И по-этому мы ставим ей ящик. Она ходит в ящик.
Чарлик был крошечной чихуашкой, от меня он тут же спрятался куда-то под стул и оттуда тихо ворчал.
— А у нас есть сад, где собаки ссат! — неожиданно возникла рядом с Маргаритой старушка. В цветастой юбке и с платочком на голове — ну, совсем деревенская! Милая такая старушка, я сразу к ней проникся доверием. И к этому ее простецкому «ссат». И к тому, что юбка была не от кутюр, а как будто из славного города Торжка…
— Ну, мама! — строго сказала Маргарита. — Ты обещала, что будешь себя хорошо вести. И вот начинаешь.
Маруся конфузилась. Это все-таки очень симпатично — когда девушка не потеряла способности краснеть. У Маруси ушки становились ярко-пунцовыми.
Старушка, ее звали Раиса Андреевна, исчезла. Я видел из прихожей, как она проворно подошла к столу, налила себе из графинчика и, воровато оглянувшись, опрокинула стопку. «Наш человек», — подумал я.
Марусин папа задерживался.
— Понимаете, у него сегодня серьезные переговоры, — пояснила Маргарита Павловна после каких-то телефонных разговоров.
Почему-то я вспомнил сразу Поппинса с его «переговорами». «Ну, мужики, по коням!»
Решили садиться за стол без Марусиного занятого папы.
— Не облезнет, — сказала Раиса Андреевна. Ей не терпелось закусить. И еще налить…
Стол был роскошным: в нем не было излишнего изобилия, но все было со вкусом, изысканно.
Утка по-пекински, баклажаны под сыром, крошечные — на один укус — пирожки…
— Это все вы приготовили? Да вы мастерица! — грубо польстил я Маргарите. С будущей тещей надо дружить.
— Да что вы! — засмеялась Маргарита Павловна. — Заказала по Интернету. Сейчас, знаете ли, все приготовят и привезут, и очень недорого получается! Очень рекомендую. Могу потом телефон оставить — еда ну просто домашняя!
— Конечно, когда руки-то растут из… — начала троллить Маргариту Раиса Андреевна.
— Мама! — прикрикнула Маргарита.
Старушка обиженно замолчала.
Поговорили про Марусю, про то, какая она родилась крохотная, — ну просто батон хлеба с головой (Раиса, естественно, сказала).
Потом — про ее успехи, про то, какой она чистый человечек, святой человечек! — это, конечно, Маргарита. Как Маруся, когда училась во втором классе, так пожалела одну свою подружку (из нищебродов, мать-алкашка какая-то), что собрала всю Маргаритину косметику и норковую шапку в придачу — и отнесла. А те, ну такие непорядочные люди, забрали все это себе. И не вернули. А чего еще от алкашей ждать.
Потом беседа перешла на мою деятельность. И на мои материальные приобретения.
Я рассказал, что работаю ведущим специалистом в клинике, что у меня блестящие перспективы; что выплачиваю кредит за квартиру (про ее площадь и месторасположения скромно умолчал), и в ближайшее время хочу «брать машину». Так надо было говорить. Не покупать машину, а именно — брать.
По логике, сейчас надо было делать предложение. Я понял, что момент настал, потому что Маруся выразительно поглядела на меня. «Давай, Котик», — как бы говорила она мне.
И тут в разговор вмешался Чарлик. Наверное, я ему все-таки не понравился. А может, наоборот, понравился… Кто разберет этих микроскопических собачонок. Чарлик стремительно выбежал откуда-то из коридора, подбежал ко мне, обнюхал мою брючину и задрал лапку возле ножки стула. Раздалось презрительное журчание…
— Ой, Чарли! Ты что! Безобразник! — Маруся вскочила, схватила Чарлика и потащила его прочь.
— Тряпку принеси! — крикнула Маргарита Павловна. И тут же спохватилась, — ой, заливное забыла.
И выбежала на кухню.
Раиса воспользовалась паузой и быстро разлила нам водку в стопки.
Хитро подмигнула.
— Ну, любезный, за вас! Дело-то молодое.
Выпили.
Раиса Андреевна впилась в бок маринованной помидорки и стремительно высосала ее. Шкурку аккуратно положила на край тарелки. И разлила еще.
— А ребеночка-то что? Усыновите! Сейчас можно разных усыновлять. И даже подобрать на заказ, хошь с голубыми глазами, хошь с серо-буро-малиновыми… А хошь — вообще негра! — Похоже, старушка захмелела.
— Ну почему — усыновить?! Я смогу обеспечить Марусю, так что пусть рожает скольких захочет!
— А с ребеночком-то как? — опять повторила Раиса и хитро прищурилась.
Я начал злиться:
— А что с ребеночком? Родит, как придет время.
— Ну дык родить-то Маруська не сможет. После того как ковырнулась. Говорила я: по первости нельзя никак… — Раису понесло, — ты прости, что я тебе сказала, но я за честность. Маргаритки пока нет…
— Раиса… как вас там… Андревна… Ну зачем вы на внучку наговариваете. Я вам по секрету скажу, раз уж вы за честность, мы с Марусей того… ну… спим. И я у нее был первым. Понимаете? Первым. Простыню вам предъявить уже не смогу, но вы уж поверьте на слово. Как будущему родственнику. Вы закусывайте, закусывайте.
— Ээээ… первым… простыню… Ты не знаешь, что ль, хоть и врач, что зашить сейчас можно что хочешь? И звезду, и кизду. — Раиса вошла в раж. — Были бы деньги.
Я еще думал: бабка бредит, перепила лишнего, вот и несет что ни попадя.
В комнате, за нашей спиной, стояла Маруся, а на руках у нее трясся тщедушным тельцем Чарлик. Лицо у Маруси белое-белое, как накрахмаленная скатерть. А в глазах слезы. И я понял: Раиса говорит правду…
Вот так невинный ангел.
Выходит, все знали, а я один — как осел. Радовался тому, что я у Маруси первый.
Мне не было больно и обидно, мне было, скорее, смешно.
— Ну вот и славно, ну вот и выпьем! Раз человек ты такой оказался хороший и с пониманием, — торжественно сказала Раиса Андреевна, правдорубка. На подбородке у нее засох подтек от томата. Как будто она — вампир.
* * *
Поппинс стал совсем смурной. Настроение у него почти всегда было плохим. Он кричал что-то в телефон, выбегая в коридор. Дела у «Народного зуба» шли не очень.
Новых посетителей приходило совсем мало. То ли люди перестали лечить зубы, то ли потянулись в другие клиники. Поппинс во всем обвинял финансовый кризис.
Собрал наш небольшой коллектив и объявил: сокращает зарплату на десять процентов.
Виснадул был недоволен. Он сказал:
— Пашем как лошади. Мне, вообще-то, предлагали работу в другом месте…
— Ну и катись! Я никого не держу, — грубо ответил Женька.
Левка Виснадул помолчал.
— Не думал, что ты так мне скажешь. Я, между прочим, с тобой с самого начала…
— Времена меняются, партнеры тоже. Ты, как зубной врач, должен это хорошо знать. На месте вырванного молочного зуба появляется постоянный.
— А на месте вырванного постоянного?
— На месте вырванного постоянного появляется имплант! — Поппинс, похоже, действительно не был заинтересован в Виснадуле…
— Я тебя услышал, — ответствовал Виснадул.
Это появилось такое модное выражение: я тебя услышал. Так говорили и в верхних эшелонах власти, и в рядах менеджеров среднего звена. И стоматологов тоже коснулась языковая мода.
* * *
Я не отказался от идеи жениться на Марусе. Конечно, мне было обидно, что она так обманула меня с девственностью. Но — когда хочешь оправдать и найти объяснение, обязательно найдешь… Вот и я. Малодушно решил, что Маруся боялась меня потерять, хотела удержать невинностью.
Тем более — она так переживала из-за произошедшего. Сказала:
— Если ты хочешь, давай отменим свадьбу. Я понимаю, что не оправдала твоих ожиданий. Только надо будет все объяснить родителям…
Я представил удивленно округленный ротик Маргариты Павловны и праведный гнев Зевса-громовержца, потенциального тестя из Совета Федерации… Объясняться с ними совершенно не хотелось.
Да и потом, я же взрослый человек.
Далась мне эта девственность…
— Ну что ты, малышка. Свадьба будет. Только попозже. Сейчас такие времена… Трудные. Экономически трудные. Ты же понимаешь?
Маруся понимала. Валюта взлетала вверх, как на дрожжах. Хотя для ее состоятельной семьи курс был не так уж важен… Зевс-громовержец переживал из-за аннулированной шенгенской визы. Маргарита Павловна намекала, что за границей имеется какая-то недвижимость. А я ломал голову — недвижимость недвижимости рознь… Есть, допустим, бюджетная квартирка в Болгарии, где-нибудь на курорте Албена. Приятно, но не до умопомрачения.
А есть — вилла в Испании. В Каталонии, которая так стремится стать независимой и автономной. Каталонцы едят хамон и пьют красное «Порто». И иметь отдельный дом в Каталонии по-настоящему круто.
А есть — Майами. Там весь цвет российского шоу-бизнеса, того самого, который так презирала Элька… А живут-то кучеряво! Пойдешь в супермаркет — и встретишь там носатую Чучелу с белыми прямыми волосами или кудрявого Дельфина с юной Русалкой. Не такая уж большая радость — встретить их, покупающих хлопья-фитнес и обезжиренный йогурт. Но престижно! Сладко замирало сердце, ко-гда я представлял себя с тележкой, нагруженной разной заморской продукцией с яркими этикетками; на ногах шлепки, короткие яркие шорты открывают мои стройные загорелые ноги. Да, а почему бы мужику не похвастаться своими ногами, коль они того заслуживают. Под руку меня держит Маруся. Маруся достойно будет смотреться среди всего этого Майами. Она хороша собой, она умеет держаться с людьми. Вступать в контакт. Маруся в ярком сарафанчике, губы чуть блестят от губного перламутра, а под мышкой она держит маленькую собачку. Необязательно Чарлика. Какая, в сущности, разница — тот Чарлик, этот…
Важно лишь то, что мы излучаем благополучие и достаток. Нам не страшен кризис, мы добры, веселы… Как там в известном кино? «Добры» надо говорить добрее, а «веселы» — веселее!» Вот мы и говорим.
Почему только так мерзко на душе? Шлепки, шорты, собачка под мышкой… Мне кажется, я уже начинаю видеть свои осознанные сновидения наяву. И они отдают кошмаром и мертвечиной.
— Севочка, скажи мне что-нибудь ласковое! — просит Маруся. Она заметила, что я где-то не здесь, не с ней…
— Зайчик! — привычно говорю я.
— Этого мало! — капризничает Маруся.
— Стая зайчиков, — отвечаю я…
Да, теперь у нас другая расстановка сил. И я могу позволить себе колкость по отношению к невесте…
* * *
Левка Виснадул уволился. Я и не думал, что он проявит характер! Оказалось, у него родственники где-то за границей — вроде бы даже в Нью-Йорке. Приготовили ему там теплое местечко.
Виснадул уволился одним днем, мы с ним работали в разные смены, и даже не простился. «Отвальную» не устраивал. И тортика не купил.
Вообще ничего. Как будто не было моего товарища по институту — забавного парня по фамилии Виснадул, по прозвищу Виська.
Ушла и Галина, уборщица. Оказалось, ей написали: парня, похожего на ее сына, видели где-то в Молдавии. Она просила Поппинса дать ей отпуск на два месяца, хоть бы и за свой счет. Но Поппинс уперся. Сказал: «Уходя — уходи». И добавил про «незаменимых нет».
Галина обиделась и уволилась. Правда, в отличие от Виснадула, она щедро проставилась. Накрыла настоящий стол, с домашними пирогами, с наливочкой, с селедкой под шубой и праздничным оливье.
Поппинс тоже присутствовал, как ни в чем не бывало.
Я заметил, что у него очень скачет настроение. От угрюмых приступов мизантропии до безграничного веселья.
Я спросил Поппинса, будем ли мы брать кого-нибудь на место Виснадула? Я могу порекомендовать…
— Знаешь, Севка, пока не будем никого брать… — сразу погрустнел Поппинс. — Дела такие, что хорошего мало. Смотри что делается. «Народный зуб» с такими ценами уже никакой не народный. А что делать — всё на еврики закупаем, пломбы эти, другие приблуды. Наш клиент не пойдет лечить задорого. Им лучше просто пойти и выдернуть больной зуб. Забесплатно. Твои-то клиенты тянутся годами…
Я вспомнил маленького мужичка Шурика, ему как раз надо снимать брекеты на следующей не-деле…
— Да вообще, бизнес, может, и прикрыть придется, — сообщил Поппинс. Как-то, я бы даже сказал, буднично.
— А я? Куда мне тогда?
— Ну а я тут при чем… Чего ты заныл-то сразу… Соберись, тряпка! — помнишь, мы так в детстве говорили, — попытался перевести на шутку Поппинс. — И ты знаешь, мне кажется, мы все попали впросак. С этим Крымнашем… Оказался не Крымнаш, а Намкрыш.
— Поппинс, ты чего, вообще уже? Ты забыл, как полгода назад ликовал, как говорил про самосознание нации, про гордость?
— Ну а что, говорил… А теперь что делать с этой гордостью? Куда ее засунуть? Танька вот сыр любит — дорблю. А теперь нет никакого дорблю, ешь, Таня, адыгейский!.. Мелкого надо в лагерь отправлять языковой. В Швейцарию. Ты знаешь, сколько это теперь будет стоить? Бабло-то откуда взять, едрён батон… А на мне еще, между прочим, кредит долларовый. Баран был, взял в долларах. Думал так надежнее… На Каховке клинику пришлось вообще закрыть — одни убытки…
— Не все же меряется деньгами… Зато теперь Ласточкино гнездо наше… Ялта…
— Ты еще мыс Фонарь вспомни!
Я не знал, что такое мыс Фонарь. Но звучало интригующе.
— Одно дело лозунги орать. Другое дело — когда тебе Шенген не дают. Когда ты столько лет карабкался наверх, а потом рррраз! — и опять в заднице. Ты вспомни, сколько мы с тобой шли к этому. — Поппинс, уже сильно захмелевший, обвел руками маленькую подсобку, где мы устраивали застолья. — Ты-то профессию имеешь. Вон Виська устроился, зубы-то у людей везде болят. И всегда болеть будут. И ты тоже устроишься, если что. А я? Я только организовывать умею. Хотя при этом, согласись, брателло, вы без меня ничто… Сидите только и в гнилушках ковыряетесь. А у меня — ум глобальный. У меня размах…
Я не знал, что ответить. В подсобке висел большой плакат, на котором был нарисован зуб в разрезе с указанием всех его значимых частей. Почему-то вспомнил, что в «Кондуите и Швамбрании» главный герой усмотрел в рисунке зуба карту выдуманного государства. Тоже, своего рода, параллельные миры…
— Ну ты не парься! Это так, долгосрочная нерадостная перспектива. А пока — работаем, так что — по коням! — хлопнул по коленке Поппинс.
* * *
— Зайка, какой большой список гостей на свадьбу! Кто все эти люди?
— Ну, котик, половину я сама не знаю! Их пригласил папа. Говорит — это все нужные люди. Вот еще телевидение, еще из журнала будут люди, вообще много, но это все нужные гости!
— Зайка, а где мои родители?
— Милый, ну не будь занудой. Мы потом поедем в Торжок и устроим там еще одну свадьбу — специально для твоих гостей! И для родителей тоже. Я буду их называть «папа» и «мама» — хочешь? И мы поедем в это… как его… Первухино. Будем там гулять по парку — хочешь?
— Маруся, я хочу, чтобы мои родители тоже присутствовали на свадьбе своего единственного сына! Ты что, их стыдишься? Может, ты и меня стыдишься тоже? Скажи: зачем я тебе вообще нужен?
— Ну ты все-таки противный… Обижаешь свою Зайку… Если тебе будет легче, я тебе скажу, что мою бабушку тоже не пригласили… Папа сказал: это свадьба для нужных людей! Понимаешь? Зайка будет плакать… Тебе вообще не угодишь. Я же сказала: поедем потом в эту твою деревню!
Я понимал, почему не пригласили говорливую бабушку Раису Андреевну…
* * *
В этот день я ужасно захотел вновь увидеть Эльку. Может быть, в последний раз. Весь этот славный гадюшник — Марусина семья. Они практически посадили меня в золотую клетку.
Я не мог уснуть. Вызывал образ Эльки. Хотел вспомнить о ней что-нибудь еще, спрятанное глу-бо-ко-глубоко… Что-то было такое хорошее, светлое…
Воспоминание пришло около полуночи.
Мы сидели в кафешке, был самый конец лета — август. Я был опьянен влюбленностью, ее смехом, ее забавным курносым носиком. Раскосыми темными глазами.
Элька спросила:
— А тебе нравится твоя работа? Мне кажется, бич нашего поколения — это то, что все мы, за редким исключением, занимаемся нелюбимым делом. У меня все друзья — какие-то манагеры, что делают — непонятно им самим. Им неинтересно жить, потому что неинтересно работать. Мне кажется, это очень важно, любить свое дело. А ты как думаешь?
— Я люблю… Знаешь, когда я первый раз увидел схему зубов, я был поражен их совершенством. Какой-то логичностью… ну, за исключением, может, зубов мудрости… Чего ты хохочешь?
Элька действительно смеялась.
— Не обижайся! Рассказывай дальше. Я ничего подобного не слышала… Зубы как основа мироздания….
— Нет, ты просто не видела! У самых больших, коренных верхних зубов, по три корня — они похожи на короны. А нижние, жевательные, о двух корнях, и они похожи на балерин, вставших в свою балетную стойку… Я только погляжу на зубы человека и могу все о нем рассказать. Да и ты тоже. Сразу все ясно с тем, у кого золотые коронки: дорого-богато, смотри, дарагой! А модель, которая вставила себе, вместо родных зубов, ярко-белый фарфор — как унитаз сияют эти зубы! Гниловатые зубы бедняков, ухоженный рот среднего класса, уж они-то знают все о том, как важна хорошая улыбка и своих детей обязательно поведут к ортодонту… Здоровые красивые зубы — такая же редкость, как естественная красота… Потому что они признак гармонии всего организма в целом…
— Да ты поэт! Ты поэт зубов, художник правильного прикуса… Знаешь, ты — настоящий. Хотя немножечко лопух.
И я соглашался: да, лопух… И — да, настоящий…
* * *
Мои воспоминания прервал телефонный звонок. Кто может звонить ночью?
Что-то случилось…
Танька Поппинс — так записана у меня супруга Женьки.
— Ты все знал? И молчал? — Она рыдала в трубку.
— Кузовлева, что случилось? Тань! Что я знал?
— Ну, про Женьку! Что у него проблемы.
— Он говорил про проблемы, что с бизнесом плохо, но сказал: пока будем работать… А что случилось-то? Наезд? Конкуренты? Где он?
— Твой Женечка на Гоа! Оказалось, он продал бизнес по-тихому! И свалил! Оставил мне триста долларов. На черный день. Так написал в записке и даже не попрощался! Представь, он прислал мне просто эсэмэску из аэропорта. Что улетает, что не вернется, здесь будущего нет. Написал: Намкрыш. Нам — это кому, мне и сыну, что ль? Скажи: как он мог? Ты же его лучший друг! Скажи: вы сговорились?
— Тань, я ничего не знал… прости меня. Я думаю, это как-то все объяснится, и Женька все объяснит… Мне очень жаль.
Танька бросила трубку. Ей, конечно, было не до меня.
* * *
Теперь заснуть было совершенно невозможно. А Эльку очень надо было увидеть. Прямо сегодня. Я должен ей рассказать, что она была права насчет Поппинса. Вообще — со всем была права, только со мной ошиблась. Я не настоящий, я целлулоидный. И к тому же не могу заснуть.
Я выпил снотворное — ни в одном глазу. Добавил еще таблеток. Никакого эффекта. Но в голове стало мутно. Подташнивало. В шкафу нашел початую бутылку коньяка — один я никогда не выпиваю, потому что знаю, что это плохая привычка. Но здесь — налил себе грамм сто пятьдесят… Залпом выпил. Сразу стало легко. Что-то надо было вспомнить. Какое-то слово, очень важное. Как это называется по-латыни, питьевое золото… Я знал когда-то, как это по-латыни. Лекарство древних от всех болезней, эликсир бессмертия… Аурум… а дальше как? Не помню…
Я вырубился в реальности и тут же, без всяких дыхательных упражнений, оказался на своей дороге. Здесь почти ничего не изменилось со дня моего последнего появления. Я стоял на дороге и думал: куда мне пойти? Или, может, сразу полететь. Где может находиться Элька?
Я совсем забыл про опасность. А зря. Из-за кустов за мной наблюдали злые ведьминские глаза. С адским ревом она бросилась на меня — злая ведьма, с голой грудью, с торчащими клыками. Это был настоящий инфернальный ужас. Лохматое чудовище. Суккуб. Я рухнул на землю, прямо в дорожную пыль. Я знал, что это конец. Сейчас начнется сонный паралич, который уже охватывал меня когда-то. Я не смогу пошевельнуться, и тварь затерзает меня до смерти. Выпьет меня без остатка. Она села мне на грудь, убрала с лица растрепанные волосы. Да это же Маруся! Как я мог предположить, что она похожа на ангела? Вот она дико хохочет, впивает мне свои когти в шею. Мне не убежать, нет…
— Обернись! — раздался вдруг звонкий голос. Нечисть оторвалась от меня и поглядела — кто ее потревожил?
Это была Элька. Она стояла, высокая и стройная, в каких-то легких серебристых доспехах. В руках у нее был меч. Элька могла просто отсечь суккубу голову, но это было бы нечестно — нападать со спины. Элька так никогда бы не поступила.
Поэтому была битва. Короткая, но ожесточенная. Элька билась как настоящая амазонка. Может, я видел что-то похожее в кино — какой-нибудь части «Властелина колец»? Не знаю. Кажется, я потерял сознание.
А когда очнулся, — больше всего я боялся проснуться в своей постели в Жулебино, — я увидел совсем рядом Элькино лицо и рыжие непослушные пряди.
— Поехали со мной, — чуть слышно прошептала она. Невыносимо пахло мимозой. Я подумал — это ведь Элькины духи. Но потом встал во весь рост. И увидел: вокруг дороги цветет мимоза… Золотая, пушистая, как будто миллионы микроскопических солнц вдруг засветили одновременно.
— Теперь ты понимаешь, почему я люблю мимозу? — спросила Элька.
Она была очень веселая, и я понял: Элька победила. Да, так случается, что женщины схватываются за мужчину. Пусть даже такого никчемного инфантила, как я…
Она села на мотоцикл — он стоял тут же, рядом. Какая она сексуальная и эффектная в этом серебристом костюме! А меча уже нет, и на ногах легкие сандалии. Я сел за Элькиной спиной. Погнали!
Сначала мы мчались по дороге на немыслимой скорости. Потом поднялись выше, выше… Мы летели прямо по небу, вперед. Но Элька знала, куда рулит. Здесь не было ни знаков, ни перекрестков. Только вперед. А тормоза придумал трус.
Мы промчались над морем, где гуляют кораблики и плавают дельфины; над пустыней с караваном бредущих верблюдов; мы видели Северное сияние и Эйфелеву башню… Где-то на побережье Индийского океана я заметил Поппинса; он ловил волну на серфе, а на берегу его ждала толстая Олеся, продавщица дорогой обуви. Вот, оказывается, с кем он сбежал…
Мы обогнули земной шар, и теперь снова под колесами нашего легкого мотоцикла были родные проселки с березками. А вот и купола Торжка. И крутые берега реки Тверцы; я вижу, как отец уже вышел на свой огородик и ковыряется в грядках, а мамочка еще спит. И я вижу ее маленькую, аккуратную седую головку на перьевой подушке, а наволочки те самые, которые я помню из детства: белые с голубыми цветками. Как много, оказывается, я теперь знаю и вижу.
Над полем одуванчиков летают огромные пчелы. Эльке приходится и так, и сяк выворачивать руль, чтобы не налететь на этих медовых тружениц. Они такие большие, и крылья у них как из голубого полупрозрачного стекла, а тела покрыты желтой мягкой шерсткой. Я пробую провести рукой по этой пушистой пчеле, когда мы делаем очередной крутой вираж…
А вот и два рыжеголовых мальчишки, они стоят на берегу, в руках — удочки, они задрали голову и смотрят на нас. Они нас ждут! Элька машет им рукой и что-то кричит. И они, как по команде, начинают улыбаться и тоже машут в ответ.
Откуда-то издали, как сквозь толщу воды, я слышу телефонную трель. Я знаю, что это из того, другого, мира. Кто-то меня ищет, зовет. Кто? Может, Поппинс звонит, чтобы объяснить свой побег? А может, моя незадавшаяся невеста, Маруся, хочет согласовать список гостей на свадьбу? Или мама из Торжка что-то почувствовала вещим своим сердцем?
Элька тоже слышит звонок. Она оборачивается на меня.
— Ну, что решишь? Туда или сюда? — спрашивает она.
И, прочитав в моих глазах ответ, выжимает сцепление.
* * *
Как хорошо было бы поставить точку, оборвать повествование на красивой и трагической ноте! Остаться героем. Пусть не в жизни, но хотя бы на бумаге… Но я — не Элька и даже не Поппинс, которые мчатся куда-то не разбирая дороги.
Странное дело, но я все чаще думаю о том, что улитка, ползущая на вершину Фудзи, — это я. Как там говорила Элька… Мудрая улитка знает, что не надо умножать скорость на время, но нужно умножать упорство на призвание. Призвание у меня было, а теперь, кажется, появилось и упорство. Ведь хотя бы для того, чтобы записать всю эту историю, мне потребовались тонны нечеловеческого упорства.
Ну, и возможность для творчества.
Возможность мне предоставил Ленчик, Элькин состоятельный пузан.
Именно он, Леонид Викторович, звонил мне в тот памятный час, когда я совсем уже было собрался отъехать. Самовыпилиться, как говорит модная молодежь в лице Маруси.
Характера не хватило.
Он позвонил мне и сделал странное, но заманчивое предложение. Поехать в далекий туманный Лондон, заниматься с его «особенным» сыном. У сына, Алеши, волчья пасть и задержка в развитии. Ленчик, конечно, со своими деньгами мог бы найти ему любых специалистов и в Туманном Альбионе, но почему-то решил обратиться ко мне.
Может быть, просто хотел иметь рядом кого-то, кто тоже любил и помнил Эльку.
А пацан, Алешенька, оказался удивительным. Я очень привязался к нему. Несовершенство физического развития с лихвой окупается его простодушием и искренностью. Каждый день мы подолгу гуляем по огромному тенистому Гайд-парку. Мог ли я, простой торжокский мальчишка, предположить когда-нибудь, что окажусь в самом сердце Лондона? Призвание, умноженное на упорство, — улыбаюсь я своим мыслям.
Трава такая нереально-зеленая, что на какое-то мгновение мне кажется: я нахожусь в осознанном сновидении.
Но нет.
Мне давно уже не снятся сны.
Фотография Эльки всегда стоит на моем письменном столе. Заходит неслышно Ленчик и долго стоит за моей спиной.
Иногда мне кажется, что когда-нибудь он убьет меня.
2015 г.
1 Здесь и далее стихи Виталия Ракитянского.

